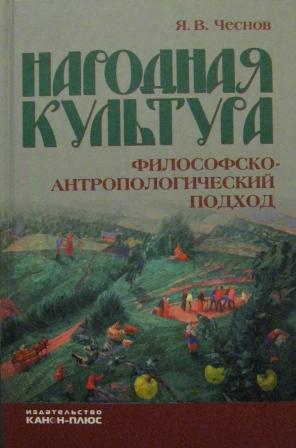ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ
Чеснов Я. В.
ФИЛОСОФСКО- (Избранные главы)
Москва
Рецензенты: д. культурологии П. Ю. Черносвитов, к. искусствоведения Н. Ю. Данченкова
Чеснов Я. В. Философская антропология народной культуры / Я. В. Чеснов. – М.: Канон + РООИ «Реабилитация», 2014. – 496 с.
ISBN 978-5-88373-376-4
В народной культуре целостная личность себя не афиширует, Книга обосновывает необходимость преподавания родиноведения (в школе, на телевидении). Она рассчитана на думающую массовую аудиторию.
ББК
ISBN 978-5-88373-376-4 Чеснов Я. В., 2014 Издательство Канон + РООИ «Реабилитация», 2014 ОГЛАВЛЕНИЕ
Аннотированный список книг издательства «Канон+»
Научное издание
ЧЕСНОВ Я. В.
ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
Директор издательства Божко Ю.В. Ответственный за выпуск Степанов М.С. Художник Клюйко М.Б. Корректор Жарская С.В. Верстка Соколова П.Л.
Подписано в печать с готовых диапозитивов 10.08.2013. Формат 60´901/16. Печать офсетная. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 31,0. Уч.-изд. л. 32,5. Тираж 1000 экз. Заказ .
Издательство «Канон+» РООИ «Реабилитация» 111672, Москва, ул. Городецкая, д. 8, корп. 3, кв. 28. Сайт: iрh.ras.ru/kanon или http://journal.iph.ras.ru/verlag.html
Республиканское унитарное предприятие «Издательство “Белорусский Дом печати”». 220013, Минск, пр. Независимости, 79.
РАЗДЕЛ 1 ГЛАВА 1
О КОНЦЕПТЕ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ
1. От этнологии и фольклористики
Начиная с XVIII века у просветителей сформировалось настороженное отношение к фольклору, а заодно и к этнографии. За этими науками им виделась «необразованная» масса. Они не обращали на нее внимание, или в лучшем случае ставили задачей просвещение «народа». Позиция, сугубо умозрительная. Встречается и поныне, иногда осовремененная выделением «массовой культур». Опасность такой позиции состоит в отчуждении философии от реальностей жизни. Да и антропология, которая вначале находилась в куколке этнографии, долго интересовалась «людьми природы». Причем природы больше экзотической, удаленной от европейской.
Вот к чему привело разделение культуры и природы. Правда в отечественной традиции дихотомия была всегда смягчена. Д. С. Лихачёв писал, что уже в «Слове о полку Игореве» природа не фон событий, а сама действующее лицо, вроде античного хора[1].
Природа в ткани гуманитарного анализа всегда была и остается перспективным средством консолидации цикла антропологических наук. Природный фактор конкретен и потому локален. Такова категория ландшафта. В философско-антропологическом понимании ландшафт человекоразмерен и единичен, сохраняя при этом свойства природы как безусловной основы жизни. В данном исследовании большое внимание будет обращено к мыслеобразам ландшафта (от локуса столичной площади до городов и макроландшафта Родины).
Все другие, неприродные уровни, являются уменьшением масштаба и нуждаются в особом обосновании. Одно из них – фактор междисциплинарности. Поле для интеграционных, междисциплинарных исследований предоставляет философия. Она в виде философской антропологии поставляет предметный взгляд на, казалось бы, чисто антропологический объект, каким является народная культура. Поэтому одна из первейших методологических позиций, которой мы намерены придерживаться, заключена в обращении к изучению человека его же собственными средствами: его бытием, ментальностями, экзистенциальными решениями проблем жизни и смерти.
Понятно, что при таком подходе к народной культуре метафизические представления, часто именуемые религией и верованиями, будут занимать важное место. Б. Малиновскому мы обязаны констатацией направленности религиозных действий на себя самих: они – цель, а вне их нет цели[2]. Это акты хозяйственной деятельности, брак, обряд вроде инициаций. Это и культы. И первоначальный из них – прамонотеизм.
Что это как не природа человека и одновременно его культура?
Поэтому при обращении к природе человека позитивистский прагматизм с его «потребностями», «реакциями и ответами», «объективными фактами» и тому подобным старьем в багаже философской антропологии и в круге антропологических дисциплин давно пора расстаться.
О фактах надобно сказать особо. Границы предмета науки всегда шире ее фактологического поля. У этнологии и фольклористики часть этого поля в совместном владении. Как развести эти дисциплины? Философом Б. С. Грязновым когда-то было высказано положение о том, что решение конкретной проблемы зависит от общего состояния науки. Сегодняшняя жизнь таких родственных наук как этнология и фольклористика характеризуется поиском новых предметных областей. Появились направления: «этнология права», «этнология власти», «гендерная этнология», а также «городской фольклор» (постфольклор) и даже «интернетлор» и т. д. Остро стоят вопросы о судьбе национальности (этничности), фольклоризма в нашей жизни и в ближайшем будущем. Эти вопросы окружены дискуссиями. Перед нами не только расширение поля, но и «общего состояния».
Иногда в таких дискуссиях речь идет о понимании научного факта в позитивистском русле, т. е. наука сдвигается на уровень ее становления в XIX веке. Увлечение проблемой фактов и их накопления не должно затмевать осмысления дисциплинарного предмета и методов конкретной науки. А это возможно только при философской постановке проблемы. Казалось бы, что эта постановка абстрактна.
Такие последствия бывают двух родов. С одной стороны, это порхание на крылышках cultural studies и собирание сладкого нектара с «Цветов зла» или с более современной литературной флоры. С другой стороны, позитивистское безразличие к философской проблематике науки и отторжение «сверхфразового уровня» или «экстралингвистических структур» в фольклористике, которая, стоя более или менее твердо на платформе нарратива, уже не столь уверена при подходе к изобразительному фольклору. В этнологии мы видим процветание эмпирики, ее слияние с краеведением, но при отсутствии постоянной ответственности у последнего перед местным сообществом за локальную историю.
Исследования этнологов и фольклористов тоже в большой мере локализованы. Но у этих дисциплин иная ответственность (легитимизация): они призваны сообщить локальному процессу национальный и глобальный уровень, в котором нуждается этот процесс, поскольку он не имеет своих собственных средств на него выйти. Национально ответственные этнология и фольклористика организуют встречное движение между краеведением и новыми видами культурных практик.
Этнология и фольклористика – дисциплины, а краеведение – целый комплекс знаний. Их взаимоотношения нельзя построить на формальном основании. Нужно вводить гуманитарно-антропологическую экспертизу с ее коммуникативным принципом и ориентацией на целостность, с ее вниманием к конкретному человеку, ныне живущему в мире высоких технологий. Такой человек не только потребитель, но и создатель этих технологий. Философия высоких технологий поможет снять с предмета этнологии и фольклористики прилипшую заскорузлость. Философско-антропологическую экспертизу мы привлекаем для введения сферы ответственности, окружающей всю науку, где у каждой дисциплины есть своя доля компетентности.
Этнология и фольклористика оперируют принципами традиционного сознания. Оно основано на мышлении отскоком, открытого К. Леви-Стросом в «Структурной антропологии». Это целостные мыслеобразы вроде «земля» (ландшафт, край, родина) и «народ» (предки, семья, родовое тело). Мыслеобразы – локализации мысли, спустившейся с континуального уровня. Подобную схему мышления развивал М. К. Мамардашвили. Мыслеобразы не архаичны и не мифопоэтичны, а присущи любому общественному сознанию. Они в качестве концептов организуют традицию, включая современную. Их смысл в соединении представления о человеке с представлениями о Вселенной.
Этнология и фольклористика – описывающие системы и вроде должны быть мощнее описываемой реальности. Но как это возможно, если в последней представлены концепты такого предельного масштаба? Выход может быть в том, чтобы названные науки развивались вместе с описываемой реальностью в русле встречного движения, т.е. на основе гуманитарно-антропологической, а теперь мы можем сказать, философско-антропологической экспертизы. Философия для данных наук не ограничение, а горизонт, позволяющий видеть окрестности и оставляющий свободу для поисков новых фактов и оперирования ими. Но философия касается также мышления самих ученых, определяя состояние сомнений и раздумий профессионалов, их способность к проблематизации. Она выступает философским ядром науки. Описываемая система (в данном случае та реальность, которая порождена корпоративно-традиционным сознанием) во встречном движении к описывающей системе, стремится поставлять для нее свои собственные элементы. И поэтому в культуре нельзя вычленить голые факты. Они обладают ценностями, выступают в виде концептов, организованы в тематизмы. Это обстоятельство надо всегда иметь в виду, работая с носителями традиции, ибо традиционализм всегда был и есть рефлексивным. Этнографы фиксируют коллективную этнологическую интерпретацию, а вовсе не результаты пресловутого внутреннего наблюдения. Но и коллективной интерпретации явно недостаточно, чтобы наука вышла на национальный и глобальный уровень. Для этого нужно, чтобы описание стало проектом, принятым людьми. Это та высота для рассмотренных наук, которая поможет воссоздать научную целостность, именуемую антропологией.
Эта целостность наличествует в традиционной культуре и обнаруживается для этнологии как табло исторического сознания, а для фольклористики как эстетического. У рассматриваемых дисциплин факт может быть общим, но разные табло ответственности. Эти табло, как и методы данных наук, делают их герменевтическими, и тогда они обнаруживают детали, частности в максимальном приближении к жизни. А также ее спонтанные виртуальные сгущения. Поэтому этнология и фольклористика могут работать с традицией, находясь внутри нее. Благодаря философии они способны выходить из своего герменевтического круга и выступать уже в качестве антропологии – общего учения о человеке. Антропологический уровень не дискретен, и ответственность здесь уже общечеловеческая в пространственном и временном отношениях. Горизонты здесь неведомы. Границы же общей антропологии определены этическим ядром, в роли которого выступает философская антропология.
Последнее обстоятельство особенно дорого тем, что дает истинную ценность всем аналитическим процедурам, подчиняя их целостному человеку, которому свойственно ее вечно утрачивать и обретать с огромными усилиями заново. Гуманитарные науки не только общественно значимы актуально, но и ответственны перед будущим. В нашем случае, обращаясь иной раз к самым редкостным обычаям, мы будем помнить о проектном залоге гуманитарного знания. Реконструктивные приемы, представленные в книге, подчинены этой иерархии целей.
2. О концепте народной культуры
Можно по-разному подходить к выделению признаков народной культуры, но несомненно то, что она живой организм, способный перерабатывать как архаику, так и нововведения. Если это очевидно в отношении достояния прошлого, то в качестве примера второго сошлемся на историю нашей «национальной» матрешки. Она появилась в Абрамцево в 1860 г. благодаря японскому прототипу богу Фукуруму, скрывающему внутри самого себя всю свою семью. Художник С.В. Малютин превратил его в деревенскую женщину Матрену, а сергиевпосадские мастера размножили эту матрешку[3]. Не менее впечатляющ факт появления в Швейцарии в Лечентале примерно в то же время страшных масок, ставшими глубоко народным элементом. Они были сделаны с литографических иллюстраций Страшного Суда, распространяемых миссионерами. Примеры эти показывают, что нельзя отлучать народную культуру от письменной трансляции, сводя ее только к устной традиции. Поэтому термины вроде «народная книга» вполне уместны и отражают фольклорную реалию.
Видя в народной фольклорной культуре живой организм, мы констатируем не только ее подвижность, адаптивность и системность. Нужно подчеркнуть целевую самостоятельность всей народной культуры, ее способность предшествовать многим социальным и ментально-психическим установкам, формирующих личность. Встречающиеся мнения об оскуднении народной культуры или даже о ее гибели не продуманы теоретически. В связи с этим надо сделать частное замечание, что теория 1920-х гг. Ганса Наумана, построенная на материале распространения баллад и на которую иногда ссылаются до сих пор, слишком частная, чтобы судить вообще о народной культуре как об «опущенном культурном достоянии». Не надо путать условия существования народной культуры в среде профессиональной и сословно-классовой с ее мировоззренческим, воспитательным и вообще с ее огромным человеческим потенциалом.
Массовость народной культуры – ее неоспоримая черта. И уж в особой мере это касается праздника, который просто по определению носит элемент массовости. Отсюда и такие явления и законные выражения, как «народный театр» или «народные гуляния».
Народная культура интимно витальна. За массовостью и, скажем модным термином, перформативностью скрывается тем не менее много того, чего не принято публиковать. «Не личит» – одно из русских выражений, указывающих на ограничения поведения и отсылающих к искомому концепту человека. «Сокрытое» составляет область приложения специфических собирательских усилий этнографа и фольклориста, а средствами этнологическими это «сокрытое», частное и локальное, делается антропологически всеобщим.
Теперь обратимся к определению концепта как другой рамки нашего исследования. По мнению академика Ю.С. Степанова, концепт – «это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт – это то, посредством чего человек – рядовой, обычный человек, не “творец культурных ценностей” – сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее»[4].
Такой подход к концепту, сделанный лингвистом, но на огромном материале изучения мировой культуры, приближается к этнологическому пониманию термина. Дело в том, что на уровне народной культуры нет абстрактных понятий, а есть ментальные организованности – «как бы понятия», имеющие всегда избирательный характер. Так, пища – вовсе не все, что съедобно. А жилище – это не только обитаемый дом, а целый комплекс из жилья, бани, амбаров, овинов, хлевов, изгородей, древесных насаждений и т.д.
«Как бы понятия» живут среди избыточности. Съедобных ресурсов больше, чем пищи, поэтому русские могут не есть конину и не готовить кумыс, придерживаясь своего пищевого спектра. Любящие макароны итальянцы могут подсмеиваться над «лягушатниками»-французами.
Любая этническая роль театральна, перформативна. А народный тип жилища – это сценическая площадка для праздников и будней, когда сцены любви разыгрываются у овина, молодые остывают от любовной страсти в холодной клети, рожают в бане, а в конце жизни человек добирается до хозяйского места в переднем углу избы.
Народная культура как самостоятельная система ориентаций в мире онтологична. При том, что она восприимчива и переменчива. Но ее метафизика ситуативна. В Палехе мастера могли писать по-своему и «по-фряжски» (по-европейски). Это происходит от сценичности и театральности. Она маскарад. М.М. Бахтин, показав в книге о Рабле смеховое начало народной культуры Cредневековья, обнажил типологическую доминанту народной культуры – она сплошь театральна. Тут полезно привести определение театральности Роланом Бартом: «Что такое театральность? Это театр минус текст, это насыщенность знаков и впечатлений, которая создается на сцене на основании краткого письменного содержания, это такое всеобщее восприятие чувственных приемов, жестов, тонов, дистанций, света, какое наводняет текст изобилием его внешнего языка»[5]. Изобилие выразительных форм в народной культуре расширено за счет ритуалов, но оно, конечно, реально.
Обратившись снова к концептам, теперь отметим, что в них включены реалии культуры, где самые обычные вещи действуют в роли смысловых указателей меняющихся ситуаций и состояний человека. Концептами народная культура ориентируется в избыточном мире, чтобы строить сценарий уникальной человеческой жизни. Концепты организуют избыточность, указывая на тематические сгущения: пищу, одежду, жилище, социальные институты. Концепт самого человека укоренен в этих тематизмах. Ведь фольклорный концепт русского человека немыслим без обитания в срубном жилище, а казаха – в войлочной юрте.
Какое сгущение внутри личности человека считается главным в народной культуре? Здесь нет резкой ценностной определенности. Признается право каждого на нрав. Человек в народной культуре более автономен по отношению к социальным нормативам. Даже к собственности, поскольку она является частью его витальности. К. Леви-Строс собирал среди бразильских племен керамику для парижского музея. Один горшок ему не продали, сказав, что он принадлежит трехлетней девочке и надо спросить ее разрешения. В обществах такого типа у человека может быть личная мелодия, которую без его ведома никому не позволено исполнять. Вывод? Человек в народной и в архаических культурах – носитель поведенческой избыточности, включая проявления его нрава, что репрессировано в нашей стандартизированной культуре.
Концепт – это тематизм, в нем есть стилистическое начало. Это единство обеспечено стяжением смыслов. В рассмотренном примере культура жилища построена как некая избирательность из имеющейся в наличии избыточности. Эта культура выступает как самостоятельный фрагмент во всей культуре жизнеобеспечения данных народов. Эти тематические фрагменты, обособленные от других, в народной культуре носят внутри себя выраженную тенденцию к унификации, к выработке этнографического типа. Единичное здесь ведет тяжбу с множественным, используя, прежде всего, визуальный код для маркировки общего, гомогенного. Важнейшее свойство народной культуры состоит в том, что ее тематизмы витально заданы, но манифестируются стилистически. Различия срубного жилища восточных славян, с одной стороны, и финно-угров, с другой – не конструктивные, а стилистические, т.е. поведенческие и эстетические. В любой народной культуре выражена эстетическая дистанция между тематически организованными фрагментами.
Непрерывность единообразия, гомогенности во времени и в локальном ареале определяется в виде традиции. Она поддерживается образами. Образы могут далеко отлетать от реальной жизни. На такое различие образа человека в традиции Просвещения и реального поведения Ю.М. Лотман обратил внимание в своей последней работе «Культура и взрыв»[6]. Пересматривая свои ранее выработанные семиотические позиции и осмысляя весь процесс культурогенеза, Лотман сосредоточил свое внимание в этой работе на его одной направленности, назвав «взрывом». В огромной степени это относится к народной культуре. Суть ее надо определить как эстетический взрыв. Художественные образы необходимы народной культуре для стабилизации избыточного мира, в котором живет нестабильный, нравный, меняющийся с возрастом и развивающийся человек.
3. О методологии изучения
Обозначив общие проблемные поля смежных наук, имеющих отношение к изучению народной культуры, можно перейти к формулировке принятой мной методологии. Надо сразу сказать, что данный раздел вовсе не исчерпывает поставленную проблему, как это стандартно делается во введениях ко многим и особенно к диссертационным текстам. Мной принята развивающаяся до самого конца книги методология, призванная исследовать развивающийся предмет.
При этом я убежден, что союз выше названных дисциплин, дороже любой нормативной методологии. Если обратиться к методологическим баталиям последних десятилетий, то с позиции наших целей большой интерес вызывает «эпистемологический анархизм» австрийско-американского философа науки Пола Фейерабенда (1924–1994). Он настаивал на том, что в науке не может быть универсальных методологических правил. Его влияние ощутили такие влиятельные философы науки, как Томас Кун и Имре Лакатош. Но анархизм Фейерабенда не дает возможности разобраться в нагромождениях антропологических фактов, хотя и провоцирует их осмысление.
Перспективный выход из ситуации был намечен итальянским философом-методологом Николой Аббаньяно (1901–1990). Его общую позицию можно назвать экзистенциальным эмпиризмом. В центре его размышлений находится проблематичная неопределенность всей жизни как явления «позитивного эмпиризма». В неопределенности заключена человеческая надежда на свободу. В «Структуре экзистенции» (1939 г., по-русски появилась в 1998 г.[7]) он подходит к эмпирике, взяв на вооружение идею «семьи концептов», ухватывающей не единственный признак, а комплекс из множества черт. При этом оказывается, что ни один метод не может полноценно описать ситуацию. Любой из методов, согласно Аббаньяно, должен проходить самокоррекцию по ходу исследования. Такой метод должен находиться под контролем достоверности[8].
Реалистическая методология Н. Аббаньяно сняла многие сомнения, которые возникали и могли возникнуть в антропологическом исследовании. Потрясающе, что в своей работе того же 1998 г.[9] при попытках избежать методологического принуждения мне пришлось ввести понятие, очень близкое к языку Аббаньяно – «знаки избыточности»[10]. Оно было призвано описать человеческие сверхусилия для того, чтобы оказаться подлинным перед лицом «того света». В данном исследовании эта задача будет рассмотрена через призму нуминозного как культурогенная реакция на встречу с чудесным.
Среди концепций народной культуры часто подчеркивается ее зависимый от официальной культуры характер, «культура-часть» у А. Редклифф-Брауна. Отсюда другая нередкая характеристика ее как культуры выживания. Для этого есть основания. Но в аспекте социологическом. В смысле антропологическом мы оказываемся погруженными в креативное изобилие способов решения жизненных проблем. Соответственно в разнообразие технологических решений. Жилище можно построить из снега, как это делали эскимосы. Или из стеклообразной пористой массы, образованной спекшимся песком между стенками, из хвороста внутри огромного костра, как это делали шотландцы. Креативность – ипостась избыточности. И вот что еще надо сказать об избыточности. Чем последняя выше, тем более приближена к пределам природных ресурсов. Тем важнее в культурогенезе природный фактор. Архаика, лежащая в основе народной культуры, избыточна в своем мышлении. Австралийский абориген обязательно заполняет знаками жизни весь фон картины. Хотя бы точками – пометом летучих мышей. При этом он выживет
Народная культура – это культура, относящаяся к ресурсам не нормативно, а биоэтически. Вот и в русской крестьянской семье большак никогда не разорит хозяйства. А по обычному праву вдове, оставшейся с детьми, община выделяла ближайшие и удобные для обработки земли.
Эта культура жива до сих пор в России. И где угодно. Хотя бы в Америке.
В 1995 году я ехал из Браунского университета на востоке США в Нью-Джерси изучать тамошнюю кавказскую общину. В Нью-Йорке по пути в Терминал (узел автобусных маршрутов) автобус пересекал Нью-Йорк. Пояснение о том, какие места мы проезжали на Бродвее, давал мне симпатичный американец. Он представился биологом. Может быть благодаря этому или от того, что он очень любил свою жену, в его руках был букет роскошных роз. В Терминале он оставил меня сторожить наши вещи, а сам ушел купить билет себе и мне. И вот мы расстаемся. Я поднимаю огромный чемодан, который меня попросил отвезти в Москву один соотечественник. Я так и странствовал с этим чемоданом. А тут от него отлетела ручка. Американец, уже удалявшийся, увидел мое беспомощное положение. Моментально отстегнул от своей сумки лямку и бросил ее мне. С ее помощью и моего брючного ремня я связал чемодан с сумкой и пошел на эскалатор, который практически впихнул меня в нужный мне автобус. В автобусе было много афроамериканцев, видно, что строителей, возвращавшихся с работы: их обувь была в белесых разводах, возникающих при попытке отмыть строительную грязь. И тут один из них, указывая на меня, громко стал говорить, что вот таким способом их предки носили грузы для белых. Я стал в уме готовить речь, что я из России и что мы устроили Октябрьскую революцию ради освобождения закрепощенных людей. Но из-за усталости и от того, что уснул, я эту блестящую речь так и не произнес.
Вот другой эпизод из США. В Вашингтоне после вечерней лекции я уснул в автобусе (таков уж мой организм). Когда я проснулся, от водителя-афроамериканца я узнал, что нахожусь далеко-далеко за городом. Оказалось, мне надо на ближайшей остановке сойти и в ночи найти остановку для обратного рейса той же фирмы. Я плохо понимал, как это сделать. Тогда водитель спросил меня, могу ли я бежать. Я ответил, что «да». Он извинился перед немногими пассажирами, выключил мотор, и мы с ним побежали. Он меня оставил около железной трубы с флажком его фирмы, и я благополучно вернулся.
Первый эпизод с афроамериканцами характеризует вовсе не народную культуру, а субкультуру Нью-Йоркского мегаполиса. А то, что проявили американские биолог и водитель – протянули руку помощи в экстремальной ситуации, – это акт неформальной народной культуры.
Экстремальность упомянута здесь не случайно. Взаимопомощь, основанная на биоэтике, базовое основание, аксиома народной культуры. Но эта аксиома сокрыта.
В 1970-е г. я приехал в Боровичи Новгородской области. В этой местности родился великий сподвижник моей науки Н.Н. Миклухо-Маклай (1846–1888). Я хотел пообщаться если не с папуасами, то хотя бы с потомками тех людей, которых видел Н.Н. В ближайшем от вокзале шалмане я познакомился с мужчиной, который пустил меня переночевать. Такое отношение к путнику, человеку в нестандартной ситуации, а обычай народной культуры. Характеризуя население боровичей, мой хозяин выразился так: «Все бабы блудни, мужики опойки».
Но как так: если мужики «опойки», то с кем же блудят бабы?
Дело-то в том, что народная культура парадоксальна. Ее самоописание парадоксально: оно, как в боровичском примере, дает сниженный иронический автообраз. Точнее, не просто образ, а мыслеобраз, в котором имеется намек на хтоническую топоментальность. В данном случае смеховую скабрезность. Нам теперь должно быть понятным, почему М.М. Бахтин определил смеховую культуру средневековья как народную в своей книге о Ф. Рабле. Мой хозяин в Боровичах тоже был раблезианец.
Иронически способ самоописания в народной культуре породил весьма ученую концепцию «сниженной» культуры у Ганса Науманна (1886–1951), Альфреда Редклифф-Брауна (1881–1955) и других. Если и есть такие связи между аристократической балладой и фольклором, то ими нельзя подменять антропологического основания народной культуры. Этим основанием является представление о безусловном биоэтическом статусе человека. 4. Достоверно восприятие
На современном уровне знаний при обращении к описанию не только «племен», но и «цивилизованных» обществ локальные культуры выступают как стилевые образования. В этническом многообразии мы видим теперь прежде всего своеобразия стилей, а не ранжир развитых и не развитых культур. Стиль и есть локальность. В стиле не довлеет общезначимость. Павел Александрович Флоренский предупреждал, что при изучении того или иного символического стиля нельзя ссылаться на истинность или правдоподобность. Вместе с тем, он, обращаясь к изучению обратной перспективы, видел в ней свидетельства реальности. Это происходит тогда, когда перспектива как организованность превращается в язык. Стиль тоже язык. Но у этого языка гораздо меньше общезначимости. Дело в том, что локальные особенности культуры и прямая или обратная перспективы по-разному относятся к конкретному человеку. Речь идет об обязательности: человек не может не занять ту или иную позицию по отношению к визуальной перспективе, а по отношению к стилю он этого
О достоверности визуального восприятия много размышляли древние греки. Сошлемся здесь на Платона, который говорил об умопостигаемости эйдосов силою мысли при посредстве «глаз души»[11]. Эйдосы для греков чувственно воспринимаемы, они зримы сами по себе. Хорошо известно, что умопостигаемый мир греки любили передавать через изваяния, посредством физических тел.
О чем говорит приведенный пример? О том, что в поисках достоверности описания мира мы обращаемся не сразу к доказательствам его существования, а прежде всего к способности воспринимать этот мир. Большинство нормальных людей может воспроизвести восприятие другими ритма и энтазиса колонн античного храма, когда они окажутся в той же точке наблюдения. Их восприятие проверяемо и потому достоверно. Так вот, в традиционных культурах искусственно создаваемые и всеми воспринимаемые образы столь же доказательны, как и феномены внешнего мира. Например, театральные эффекты вроде чревовещания в шаманских обрядах – они достоверны для рядовых участников обряда.
Достоверность – свойство не онтологического описания мира, а свойство бытия конкретного человека. Это бытие само по себе со способностями что-то воспринимать служит доказательством присутствия человека, а затем и доказательством присутствия внешнего мира. Речь здесь идет не о рамочной онтологической точности, а о точечной, локусной. В традиционных культурах описание мира задается не строгими понятиями, образующими мыслительную рамку явлений, а описанием состояния человека, находящегося в точке наблюдения. Наблюдение это мотивировано удивлением, вниманием к необыкновенному. Точечная онтология открыта всему миру, который себя являет в разных необыкновенных видах и сочетаниях. Истина жизни в традиционной культуре состоит в способности оказаться в нужное время в нужном месте и нужном психическом состоянии.
5. Как увидеть русалку?
Как войти в такое состояние, когда можно увидеть русалку? Зададим этот вопрос с позиции носителей таких культур, где существует вера в подобных духов. Вопрос наш не об истинности или неистинности суеверия, а об истинности сознания, пусть оно с нашей точки зрения может быть классифицировано как измененное сознание.
В мировоззрении славянских народов образы русалок сопряжены с годичным круговоротом времени. Считается, что они появляются возле водяных мельниц в течение Русальной недели в начале лета. Подобные привязки циклическому времени чрезвычайно объективирует народные верования. Русальная неделя представляла собой славянский языческий праздник, название которого, возможно, связано с названием древнеримского праздника Русалий. Русалками по народному представлению становились девушки, умершие (обычно утонувшие) перед свадьбой. Следовательно, эти образы имеют прямое отношение к сильным переживаниям половой жизни человека. Русалки чаще всего описываются как красавицы (иногда как чудовища) с длинными волосами, которые они расчесывают гребнем. Русалки очень опасны, особенно для мужчины, которого они заманивают в воду, щекочут до смерти, душат и топят. Но русалки положительно относятся к детям.
Верили, что русалки могут обернуться домашним животным, птицей или белкой. В некоторых районах считается, что это полуженщины, полурыбы. В ХVIII–XIX вв. таких женщин, называемых фараонками, любили изображать на фронтонах домов. Рыбообразные русалки близки германским ундинам и скандинавским никсам. Последняя стала знаменитой русалкой в сказке Ганса Христиана Андерсена. Ундины и никсы также опасны для мужчин.
Восточнославянская русалка возможно архаичнее своих западноевропейских подруг. Об этом говорит ее сценическое воплощение в некоторых южнорусских обрядах – исполнители ее роли облачаются в маскарадный костюм, изображающий лошадь. Здесь мы видим разгадку происхождения этого образа. Конь в мифологии многих народов таинственное существо и даже опасное. Вспомним Троянского коня. Конь в архаических кавказских верованиях и у сибирских народов относится к хтоническому подземному миру. Да и в «Песне о вещем Олеге» Пушкина конь хтонически опасен.
Началась эта история с конем много тысяч лет назад, в палеолитическое время. Ученые обнаружили, что изображение лошадей находится у входа в пещеру, а изображение быков в самой их глубине, рядом с изображениями женщины. Значит, образ коня уже тогда маркировал опасный внешний мир. В антропогонических мифах некоторых народов конь вообще борется с существованием сотворенного человека как в мифах народов Гиндукуша (у кафиров). Аналогичный миф я записал в 1982 г. в Абхазии. В нем говорится, что лошади догадались, что потомки первого человека Адама в будущем сядут на лошадей и будут их погонять. Поэтому табун лошадей понесся в сторону Адама с целью растоптать его копытами. Но Адам вырвал из своего бедра кусок мяса и швырнул его в табун. На лету мясо превратилось в собаку, которая отогнала табун в сторону.
В эпохи становления колесного транспорта (это конец IV – начало III тыс.), судя по специальной лексике, с колесным экипажем образовалась устойчивая связь индоевропейских слов обозначающих быка, чего не было в термине, обозначающем лошадь. Бык всегда соотнесен с домом и окультуренным пространством, с женщиной, а конь –
Хронотоп появления образа коня связан с пограничными состояниями сознания человека. Так, от одного языческого жреца в Хевсуретии в 1985 г. я услышал, что именно конь снился ему в течение двух лет. Он бил его, кусал и гнал в направлении святилища. Мужчина стал безбрачным жрецом хевисбери. В Западной Грузии я записал в 1983 г. видение 17-летней девушки, убежавшей в первую брачную ночь в состоянии фрустации от своего мужа. Она видела трех духов, двух мужчин и одну женщину, приезжавших к ее дому на мулах и манивших ее в свой мир. Духи стояли на одной ноге, рукой держась за седло.
Появление образа коня маркирует ситуацию опасности в пограничном, измененном состоянии сознания. Восточнославянский женский образ русалки появился как трансформация обычного состояния сознания в измененное, провоцируемое весенним возбуждением половой деятельности. Это трансформированное беспокоящее сознание морфологически слиплось с образом коня.
Место встречи с русалкой – у воды. Граница воды и суши – важный ритуально-мифологический разрыв между миром человека, сотворенного из твердого вещества, и всем другим опасным для него миром. Но этот мир не только опасен, но полон внешних побуждений, мотиваций действий, прообразе вещей и зародышей человека. Так, у тробриандцев зародыши людей (балома), по описанию Б. Малиновского, плывут вместе с весенними ветрами с одного островка к людям и оплодотворяют женщину.
Зародыш человека во всех мифологиях без ног и этим похож на рыбу. Поэтому рыба имеет всегда отношение к зачатию. Бесплодные женщины в Грузии ради него погружались в бассейн с форелями[12].
Абхазская русалка иногда предстает как дочь бога охоты Ажвейпшаа. В обмен на сексуальные услуги она посылает охотнику диких зверей. Но это тоже опасный женский образ, находящийся за пределами культурного пространства. Практически все охотники в Абхазии и на Северном Кавказе, с которыми я много общался, хранят тайну об опасных встречах с дочерью бога охоты. Рассказывается много историй о гибели охотников по этой причине или о том, что дочка богини охоты проклинает потомство охотника. К этому образу близок образ грузинской богини охоты красавицы Дали, легший в основу лермонтовского сюжета о царице Тамаре.
Теперь мы можем, кажется, ответить на вопрос: «Как люди верят в существование русалки?» Люди видят русалку или дочь бога охоты не в силу пралогического мышления, как считал бы Л. Леви-Брюль. А потому, что их мышление облачено в онтологическое сознание. Мышление здесь формально-логически не оторвано от предъявления самого человека, находящегося в точечной онтологии. Человек видит русалку потому, что он сначала должен перформативно предъявить себя, свою уникальную точку зрения. Коллективно русалок не видят, но коллективно разыгрывают о них спектакли. В персонифицированности отношений и состоит чарующая прелесть образа андерсоновской русалки. Персонифицированная целостность человека выражается в повсеместном веровании в наличие в человеке разумной души.
6. Рефлексивный многочлен, или Почему эзотерика выпадает
Описать конкретную культуру без нуминозного, интимно-душевного, в котором пребывает личность человека, невозможно. Никакими измерительными параметрами объективированной культуры нельзя заменить сферу, где ментально собирается представление о человеке. Вообще-то это эзотерика. Такое описание было бы просто недостоверным.
На практике улавливать эзотерические представления очень сложно. Определенную роль играет, конечно, настороженность к чужому, своими вопросами пытающегося проникнуть в то, о чем и своим-то людям рассказывают не всегда. Один балкарский охотник, известный знаток эпоса и обычаев, на мою просьбу рассказать что-нибудь о боге охоты Апсаты ответил, что «впервые о нем слышит». Потом это оказалось совсем не так.
Дело еще в том, что существует механизм принципиального сокрытия эзотерических знаний. Миф своим бытованием в разрозненных частях похож на механизм конспирации. Никто в данной культуре не знает полной версии о божестве охоты, кто-то не знает всех сюжетных ходов, другой не знает имени дочери бога охоты и т.д.
Разрозненное существование мифа говорит о его принципиальной вторичности по отношению к мышлению, хотя возраст кавказского охотничьего мифа явно уходит в палеолитические времена. Миф как сюжет, как нарратив может существовать только в виде суммы версий.
Подобные явления уже хорошо изучены в фольклористике. Мы же сейчас развиваем антропологическую герменевтику, которая не может удовлетвориться дихотомией «верящий в русалку (видивший) рассказчик» и «нарратив о русалке, характерной для данной культуры». Для обоснования описания введения требуется еще третья позиция. Она вслед за М.М. Бахтиным должна быть названа «внешним наблюдатетелем». Этим понятием вслед за Бахтиным принято обозначать такую позицию, когда сознание о самом себе строится на фоне сознания о нем со стороны другого сознания. У последнего представлены функции фильтра: он отбирает из опыта человека что значимо и что незначимо для общества. Хранителем полноты всех версий мифа о боге охоты и его дочери является именно внешний наблюдатель.
Рефлексивная цепочка, начавшаяся выходом мышления вместе с сознанием человека о том, что он остается конкретной целостностью, и закончившаяся сюжетами о русалке или дочери бога охоты, эту целостность нарушающими, обретает третью позицию. Она превращается в рефлексивный многочлен. Но закономерность традиционного мышления состоит в сокрытии позиции внешнего наблюдателя, в его выпадении. В культурах подобного типа ее носитель присутствует своей деятельностью, статусом, психизмом, которые автономны, ибо конституируются по отношению к внешнему наблюдателю. Но в этих культурах человек транслирует свой опыт с выпадением позиции внешнего наблюдателя. Значимости остаются, потому что они суть продукт, доступный обществу, и могут поэтому храниться, т.е. воспроизводится. А вот средства получения этого продукта через усилия и страдания исчезают, и каждый человек обречен снова подходить к грани своих психических возможностей, самому встречаться с русалкой или зверем.
Встреча с русалкой похожа на произведение искусства. В последнем мы можем хорошо знать то, на каких холстах и какими красками писал Рафаэль. Но повторить им сделанное мы не сможем. История человечества и началась с творений искусства древнейшими людьми виде оббивания галек или гравировки на них. Или умелой добычи зверя. В этом деянии, в творении искусства, в общении с русалкой скрыто присутствует позиция внешнего наблюдателя, но она выпадает из описания фактов. Позиция внешнего наблюдателя – отсутствующая структура Умберто Эко: удаленный от нас код кодов или последняя реальность, побуждающая человека к вопрошанию[13].
Рассмотрим рефлексивный многочлен еще на нескольких примерах. В этикете народов Северного Кавказа развиты системы не прямой, а косвенной коммуникации. Например, существует правило, по которому вместо того, чтобы сделать замечание молодой невестке, ругают ни в чем не повинную дочку. Включение последней в коммуникативную ситуацию превращает все в рефлексивный многочлен. Другой пример: в охотничьих обычаях народов Кавказа мясо дичи делит вовсе не тот человек, который ее добыл. В связи с этими правилом вспомним древнегреческий обычай, когда на ритуальном жертвоприношении быка (буффонии) агентом убийства считался не человек, а его орудие – топор, который передавали из рук в руки и, в конце концов, как виновника выбрасывали в море.
Выпадение среднего звена в рекурсивном многочлене превращает его в двучлен – рекурсивную петлю с восходящей и нисходящей ветвями. Такие рекурсивные петли уже обсуждались в антропологии Клиффордом Гирцем и его последователями. В сущности «двойное послание» (doublе bind) Грегори Бейтсона есть ни что иное как рекурсивная петля, т.е. сокращенный многочлен[14].
Нет ли в описанных ситуациях с полным многочленом попытки осторожного, опосредственного общения с миром? Она несомненна. Перед нами то, что Макс Вебер называл идеально-типическим в отличие от нормально-теоретического моделирования.
Рассмотренные ситуации основаны на понимании, а не на объяснении. Понимание – это общение средствами самого бытия. Но какое имеет отношение веберовский идеальный конструкт к бытию, тем более в его эмпирическом виде? Дело в том, что идеальный конструкт вовсе не образец, сокровенно вынашиваемый культурой. И даже не сакральный образец, по отношению к которому культура вечно возвращается, по М. Элиаде.
Все изложенное подводит нас к рабочему определению народной культуры. «Народная культура – субличностный нецелевой блок креативных актов, ограниченных принудительно природосообразностью (ландшафтом) и сакральностью (нормативной культурой). Оба принуждающие фактора по своей направленности и последствиям являются биовластью, подавляющей произвол индивида и стимулирующей его восприятие сакрального». Ниже будет показано, как народная культура выплескивается хтоническими энергийными силами и кристаллизуется религиозно-нравственной рефлексией.
РАЗДЕЛ 1 ГЛАВА 2
ПРИРОДА – ТОПОМЕНТАЛЬНОЕ ПОЛЕ
1. Культурогенез
На протяжении данной работы мы будем, сохраняя синтетический метод антропологических реконструкций, двигаться от современного состояния вещей к их предшествующим состояниям, как бы пятясь назад. Эта преемственность в логике называется трансдукцией. Собственно говоря, реконструкция – вариант хорошо известного сравнительно-исторического метода, способного восстанавливать цепочку логических связей. Однако развитие науки показало, что такие связи не единственные, что есть разрывы, эмерджентное появление новых качеств. На такие состояния наука обратила особое внимание в последние десятилетия, названные эпохой постмодерна. В силу вошли методы стохастические, вероятностные. Задачи у реконструктивного гуманитарного знания усложнились.
В нашем случае рано или поздно при подобном движении назад суждено упереться в проблему «происхождения вещей», в «генезис». Для нас это субличностные креативные акты, которые можно дефинировать Пригоженским «динамическим хаосом».
Обращаем внимание на то, что здесь генезис понимается не как процедуры поиска преемственности, как это часто делается, а как нечто иное. Наша цель состоит в обнаружении креативного состояния, которое реализуется затем в генетическом развертывании культуры. Поэтому общая проблематика культурогенеза нами будет расширена за пределы морфогенеза к горизонтам ментальным и энергетическим. Это другая задача, нежели процедура обычной реконструкции. Скорее это можно сравнить с геологической разведкой ресурсов или археологическими раскопками. Нечто похожее, видимо, имел в виду Мишель Фуко при написании книги «Археология знания».
Мы определяем статус креативности как ощущение свободным человеком полноты бытия, воспринявшего необходимость принятия решения в условиях неполной информации. Ясно, что тогда неполнота информации – это механизм культурогенеза. А полнота бытия ответственного человека – движущая сила культурогенеза. Культурогенез требует наличия обеих сторон. Конечно, полнота бытия и свобода человека первейшие факторы сохранения преемственности культуры вообще и культурогенеза в частности.
На меня неизгладимое впечатление произвело в молодости чтение повторного издания «Морфологии волшебной сказки» Владимира Яковлевича Проппа в 1969 г. (первое издание 1928 г.). Мои ощущения от этой книги с годами преобразовывались в собственные концепты. Первичная недостача – это, конечно, пример деятельности в условиях неполноты информации, в условиях риска. Волшебные помощники и вредители – это хтонические энергии, дающие добро, но и опасные энергии тоже. Обретение ценности равно результату культурогенеза. А вся вместе волшебная сказка соответствует фактору чудесного, которое этически и эстетически выражено в народной культуре. Его можно было бы назвать иерофанией, термином Мирчи Элиаде. Но это понятие у Элиаде, означающее все необычное, очень социологично и обезличено. А мне хотелось построить теорию народной культуры на основании чудесного при сохранении личного, человеческого перед необъяснимыми явлениями. Тут пришла на помощь теория нуминозного Рудольфа Отто. О ней еще будет сказано ниже. А здесь в связи с проблемой культурогенеза отметим, что инновации, технологические обновления, столь же свойственные народной культуре, как и профессиональной, в первой из них вытекают из всей суммы личного опыта, наполненного чудесным.
Где, однако, логические рамки нуминозного культурогенеза как процесса? Чем он ограничен? Природой. С опытом ее освоения знакомит любое классическое исследование народной культуры. Взять хотя бы «Поэтические воззрения славян на природу» А.Н. Афанасьева.
Культурогенез не только ограничен природой, но подпитывается её ресурсами. В народной культуре культурогенез сдвинут в сторону природы и тем самым дистанцирован по отношению к человеку. От того между человеком и культурой отношения рисковые, экзистенциальные. Мудрые поколения наших предков создали миф о бунте вещей: папуасы и майя, русские в сказке «Федорено горе». Восстание вещей возможно, так как они каждый момент создаются, находятся в состоянии непрерывного культурогенеза. Вещи, с одной стороны, выходят из-за горизонта природы, а с другой стороны, творятся вот сейчас все на той же природной почве. «Вспучиваются», как сказал бы Мартин Хайдеггер.
Акт культурогенеза находится в промежуточном пространстве между человеком и творимой культурой и участвующей в этом природой. Мой знакомый охотник поймал в полях Подмосковья в капкан лисицу. Подойдя к ней он сказал: «Ага, попалась!» Возникла ситуация, где проявилась виртуальная «ага-реальность», нуминозно значимая для охотника. Точно такую же ситуацию описывал в «Первобытной культуре» Эдуард Тэйлор. Только там речь шла о гвинейском негре, который, выйдя из дома, споткнулся о камень. Он сказал: «Вот и ты» и приобщил камень к коллекции своих фетишей.
Ага-реальность, творимая вот сейчас, существует в проектном залоге. Эта реальность онтологична и технологична. Она допускает проектный подход к себе.
Акт культурогенеза билатерален: в нем задействованы природное начало и целевой образ. Создается единый мыслеобраз. Народная культура прилегает к природе и работает мыслеобразами. Но о них в подробностях ниже.
2. Природа – ресурс иномыслия
Кажется, что человечество отказывается об идеи покорения природы. Но до сознания, что мы должны покориться сами еще далеко. А уж до понимания того, что природа хранит человеческий ресурс иномыслия, ресурсов креативности, и подавно.
Вот что нас обнадеживает. В философии наблюдается интенсивная разработка проблематики на ее маргинальных полях. Все шире становится это поле, и все теснее оно смыкается с дисциплинарными полями наук. Философия чаще стала привлекать антропологическую тематику. Хотя бы в виде ссылки на антропологическую суть того или иного явления. Но, к сожалению, сам антропологический материал как таковой анализируется слабо.
Между тем современные авторы влиятельных философских концепций тщательно разрабатывали сугубо антропологические сюжеты. Сошлюсь для примера на исследования М. Фуко по истории европейской медицины и пенитенциарных учреждений.
Философам более или менее известны труды Маргарет Мид и Бронислава Малиновского. Западное Самоа и Тробрианды – колыбель концепций этих замечательных антропологов. Однако их работы уже обросли массой поправок и критических замечаний. А между тем Россия – это колоссальный материк антропологического разнообразия человечества. Здесь трудятся хорошо подготовленные специалисты с глубоким знанием необходимых языков. Перед нами огромный потенциал антропологической науки, все теснее смыкающейся с философской антропологией. Он представлен, к примеру, эстетическими системами финно-угорских народов, разработанными концепциями времени у чувашей и вайнахов, особым отношением к пространству у славянских и бывших кочевых народов Евразии, этическими системами народов Сибири. Автор как антрополог достаточно много поработал среди названных народов и частицу их философствования постоянно стремится донести до профессионального сообщества философов.
Есть мешающие этому стереотипы. Начиная с XVIII века у просветителей появляется некий объект изучения – «народ». Но это выразилось в настороженном отношении к фольклору, а заодно и к этнографии. За всем этим им виделась «необразованная» масса. Просветители не обращали на нее внимания или в лучшем случае ставили задачей это самое её просвещение. Потом пришло время романтизма и возникли Voelskunde, Voelkerkunde, les traditions populaires, folklore, отечественная этнография в России. Везде географически-распре-
Но оказалось, что географически-распределительная метода напрямую связывала уровень развития общества с «природным фактором». Последний у привержинцев этого подхода, например в виде тропической природы, детерминировал ленность и вялость ума ее обитателей. Это относилось, скажем, к населению Тайваня (Формозы), Вьетнама, Малайзии, даже Японии. В 2012 г. в рейтинге университетов китайские и японские признаны лучшими. Вот какое дело. Следы «географической», сугубо умозрительной позиции встречается и поныне.
К рассмотренной точке зрения по подходу близка теория массовой культуры. Она была развита еще в XIX в. в ходе европейской индустриализации антикапиталистически настроенной интеллектуальной элитой и направлена против ценностей нового общества[15]. Элита ассоциировала себя с полюсом «культура», противопоставляясь «природе» с включенным в нее «народом».
Опасность такой позиции состоит в отчуждении философии от реальностей жизни. Да и антропология, которая вначале находилась в куколке этнографии, долго интересовалась «людьми природы». Причем природы больше экзотической, удаленной от европейской. Понятия «народ» и «природа» стали сближаться, чему немало способствовала благонамеренная романтическая позиция Ж.-Ж. Руссо о «счастливом дикаре». Теперь нам приходится с трудом преодолевать разделение культуры и природы, культуры и техники. Возвращать назад отторгнутую «мать-природу». Правда, в отечественной традиции дихотомия была всегда смягченной. Д. С. Лихачёв писал, что уже в «Слове о полку Игореве» «природа не фон событий, а сама действующее лицо, вроде античного хора»[16].
Экологические проблемы современности животрепещущи. Но в теоретическом осмыслении явно сейчас лидирует философия техники, – важнейшего фактора цивилизации, представляющего силы природы. Примечательно, что актуальное направление науковедения каждый раз заново акцентирует принцип историзма.
В пустоте репеллера, в разрыве находится экзистенциально трагическое сознание. Оно весьма выражено в самоописании традиционных культур. Знающий калмык начинал описание своей культуры с вопроса: «Что делать, если потерялась деревянная чека от колеса кочевой кибитки?» Поясняя мне свою культуру, старые мангышлакские казахи рассказывали, как найти воду в пустынях полуострова – надо рыть колодец там, где собьются в кучу овцы. Наверное, так же объяснял бы свою мне культуру австралийский абориген, живущий в безводной пустыне, где он на ночь зарывается в песок, и организм его получает влагу из ночного конденсата через кожу. Это принцип творческого эмерджентного мышления в пустоте репеллера. На грани выживания. Смертельно опасные ситуации – постоянная тема разговоров с моими соседями в Подмосковье – водителями, плотниками, врачами, рыболовами, охотниками.
3. Природосущностность,
Существует традиция рассматривать экзистенциальные ориентиры изолированно. Есть глубокие исследования, например, танатальных проблем или собственно биоэтики. Это, конечно, требует большого объема знаний для удержания целого. Как облегчить задачу?
Может помочь опыт антропологии. Сама сущность антропологической науки строится на синтетезе экзистенций (валентных состояний) и экзистенциалов (реализованных морфем). Тут жизнь неотделима от смерти, радость от страдания, смех от плача и т. д. Заметим, что в названных дихотомиях первая сдвинута к биоэтике, вторая – к «объективной» экоэтике. Целостное видение экзистенцалов и экзистенций само по себе возможно только в плане виртуальной реальности, где последовательности константной и виртуальной реальностей смещены, наложены друг на друга, «нелогично» друг друга предваряют. Ну, какой константный смысл в обряде зимней пахоты снега или в сытой «веселой Масленице», изображению которой радуются, а потом сжигают?
С антропологической точки зрения виртуально-бытовая реальность эйфорична и трагична одновременно. Разобраться в этом можно только с помощью синтетического метода, не расщепляющего целое, а распредмечивая его с помощью логических рекострукций.
Такую биполярность (при целостности дихотомий) нужно отнести в списку черт виртуально-бытийной реальности наряду с ранее выделенными Н.А. Носовым порожденностью, актуальностью, интерактивностью и автономностью. На биоэтическом полюсе бросается в глаза планетарное изобилие форм человеческой жизни. Оно тем больше, чем ближе мы подходим к традиционным народным культурам с их ярко выраженными при-
В коммуникации с природой человек предъявляет не свой семиотический статус, а биодействие, находящееся в поле ментальности, т. е. в рефлексивно выраженных условиях природной среды. Это тот самый чувственный опыт, без которого, по мнению Аристотеля, не может возникнуть истина.
Будучи противочленом указующей природы и находясь в большом жестовом пространстве, человек бережет уникальность и устойчивость своего чувственного опыта. Гегель эту уникальность выразил в понятии антропологических внутренних артикуляций. Еще раньше Августин в своей «Исповеди» ввел время во внутренний психологический мир личности. Фактором времени человек противостоит требовательным указательным жестам природы. Во времени он хранит свои социальные качества: кариативность, плач, сострадание. Вот почему у Эсхила навечно прикованный к скале Прометей так хочет, чтобы другие увидели его страдания и проявили тем самым сострадание – он находится в жестовом пространстве.
Если антропологические внутренние артикуляции порождают личностное ограниченное и страдательное время, то большое природное время движется навстречу человеку, неся ему изобилие и необходимую, но странную полноту бытия. «Пришла пора, она влюбилась», – сказано у поэта. И всё. Изобилие Лариной в цветении её витальности. А влюбляться-то в кого? Выбор небольшой.
В ограничительном жестовом пространстве природы мы находим всю благодать для души и тела. Но в этом пространстве не все съедобное является для нас пищей. Точно так же пространственно локализованы другие культурные потребности, образуя адаптивные культуроценозы. Осваивая мир, человек строит свой личный адаптирующий антропоценоз[18]. Обе конфигурации включают биодействие.
Антропология довольно четко ориентирована в культуроценозах, типологизируя эти конфигурации вплоть до уровня цивилизаций. Но как работать со столь различающимися антропоценозами? Где их пределы? Здесь ясно только то, что в сферу антропоценоза попадает наряду с известным и неизвестное в культуре, загадка, или, как писал крупный отечественный философ В. С. Библер, энигма. К неким загадочным пределам направлен человеческий опыт. К нуминозному, скажем мы вслед за Рудольфом Отто. Человек умеет маркировать загадочность, например, скрывая части тела одеждой, находясь в интимном пространстве дома. Опыт – это не только читаемый текст, но и загадка антропологических артикуляций, выступающих асимметриями, или смещениями. Коррида, японская чайная церемония, русский балет – это подобные смещения.
Но, прежде всего, асимметрично смещенным является наше тело, что отметили М. Мерло-Понти и М. Хайдеггер, а Ж. Л. Нанси говорил о разномыслии тела. Своим разномыслием тело устремлено к природному изобилию, к золотому веку и через золотой век к бессмертию. Обо всем этом говорится в мифе о Прометее. Кстати, в разномыслии тела коренятся истоки юмора и смеха. Как и страдание, веселье тоже порождено жестовым пространством.
У тела, ментально находящегося в жестовом пространстве, ограничена инфляция. Она преодолевается инверсиями верха и низа, внутреннего и внешнего тела и т. п. Наше тело соположено с другими телами и образует онтологические ряды (ребенок, юноша и девушка, взрослый, человек преклонного возраста)[19].
Смещенные асимметрии тела внедрены в виртуально-бытийную реальность. Эти асимметрии захватывают онтологии мира, притягивают их, образуя аттрактор вихревых онтологий. Внутри таких онтологий наш чувственный опыт способен проявить биодействие страсти. Оно лежит в основе необходимо страстного характера исторического процесса. Страсти нас делают индивидами. Как отметил М.К. Мамардашвили, анализируя теорию страстей у Р. Декарта, страсти – это «путь и способ становления и исполнения человеческого существа, а не просто любовь или гнев». Вот почему в древних языках слово страсть означает одновременно «плодородие». Страсть и плодородие размещены в технологическом поле. Тут, а не в неком Космосе прорастают зерна пассионарности.
Природа своим указательным жестом обнажает человека-противочлена, лишает его камуфляжа культуры и делает из него актера на мимической сцене. Тут уж никуда не деться. Телесные смещения наш первый сценический сюжет, а трикстерство – наше первое амплуа, в котором мы достигаем успеха жестами здоровья и витальности.
К изложенному тезису о трикстерстве и о виртуальной полноты природного бытия один весьма красноречивый факт. В тропических лесах Камбоджи еще обитают немногочисленные племена охотников и собирателей пищи. У них есть такой обычай. Когда в силки, расставленные умелым охотником, попадает дичь, то охотник, обнаружив положительный результат своих усилий, ритуально громко высказывает изумление: «Ну кто же это так удачно тут поставил силки?»
Трикстерство прикрывает биоцели всей жизнедеятельности. Но театр культуры этим не кончается, он из неизвестности извлекает для нас все новые и новые роли. И так до тех пор, пока философия и антропология начинают выполнять задачу критики культуры.
4. Ландшафт и мышление
Механизмы культуры, взятой в качестве ограничительных рамок жизни, выступают в аксиоматичной форме, так как не требуют логических доказательств. Эти этические рамки особенно наглядны в народной культуре. «По правде», «по совести», «не личит» (неприлично), «не положено»[20] и подобные суждения формируют не только отношения внутри общества, но и между ним и природой. Последняя даже при самом общем знакомстве с какой-либо конкретной культурой наделяется свойством видения: выражения «озера – глаза», «глаза земли» можно найти в лексике самых разных культур. Тогда человек, будучи «видим» природой, вынужден нормировать свои поступки, и тем самым он оказывается локализованным. Нормированное отношение с природой лежит в основе социоприродного ландшафта. Ниже мы рассмотрим порождение такого ландшафта на пути восходящей
Аксиомы, будучи общепринятыми и в то же время выступая в роли мотиваций, коллекивно-субъективны. Коллективность коммуникативно выражена в слове – как было сказано, аксиомы закреплены
В народной культуре подобные формулы направлены на ориентации в мире, который везде воспринимается освоенным и не враждебным человеку. Говоря иначе, на воспроизодство не только его
Тем не менее аксиомы – монады, которые вовсе не сменяют друг друга, а сосуществуют в виртуальном сотворенном мире, борются, взаимодействуют и выпадают в константность. Последние – материальные, организационные, ценностные и прочие артефакты культуры. Выход из столкновения аксиом был найден в институтах арбитража, прежде всего в праве. Загадочная для юристов проблема происхождения естественного права лежит в способе виртуального мышления, где важную роль играют локализации мысли, включая и ландшафтную.
В речевых формулах аксиомы описываются как состояния движения, передающие ход мысли – восходящей и рекурсивно возвращающейся петли. Рассмотрим элементарные аксиомы, относящиеся к человеку. В них всегда вводится локализация. «Двуногий» – локализация, указывающая на человека. Не он монополизировал эту двуногость, а локализация, способ его прикрепления к земле служит указанием на человека. «Четвероногое» – животное. (В некоторых русских переводах Библии: Быт. 1. 24, в языках Кавказа.) Одноногий – дух. (В мифах Кавказа, в русском фольклоре – Баба яга.) Злоключения Эдипа принадлежат вовсе не человеку, а духу. Имя Эдипа означает «Распухшая нога». И по пьесам Софокла нельзя реконструировать человеческую историю, выдумывая инцестуозную стадию брака.)
Архетипы культуры работают подобным рекурсивным образом. Так, архетип жилища – это словесная формула: «человек не должен спать под открытым небом»[21]. Здесь подразумевается мысль, восходящая к нравственному «закону неба», и вербализованы ночной нисходящий ландшафт и остановка – локализация места ночлега. Ландшафт порождается нисхождением рекурсивной петли. Но восходит она, начинаясь топоментально. Топоментальность – это где рамки для мысли заданы местом и откуда начинается восхождение мысли. По своей интенции топоментальность не локализация, а, напротив, делокализация восходящей, вырвавшейся на свободу мысли. После восхождения мысль, облаченная в слово, совершает поворот. Нисходящая мысль обретает локальность и образует рамки для ландшафта. Ландшафт субъективируется. В качестве субъективации, переданной словом, выступает миф, который всегда ландшафтен. Миф вторичен по отношению к мысли. Хаотическая логика аксиом виртуальна и константна одновременно. Она транзитивна. Это логика класса трансдукции. Она сродни логике аффектов и мифов. 5. Ландшафт и притча
Библейские притчи дают прекрасный пример работы рекурсивных петель. В самом простом толковании притча это «иносказательный рассказ с сюжетом из обыденной жизни, помогающий воспринять и понять духовные реалии»[22]. Популярность притч, включая знаменитые мудростью своей «Притчи царя Соломона», огромна. Судя по «Библейскому богословскому словарю», Иисус Христос более 70 раз прибегал к изложению своего учения в форме притч[23]. В русской Библии притчи идут сразу за Псалтирью. Притчи, именуемые по-гречески «параболэ» – сравнение, направлены на сопоставление духовных предметов с естественными. Их исток лежит в свойствах языка обозначать нечто сущее фрагментом природы. Таково, например, библейское выражение «соль земли»[24]. Но обозначение предиката предмета через указание на фрагмент мира свойственно самым основам мышления, которые фиксировали этнографы. Когда Н. Н. Миклухо-Маклай показал папуасу зеркало, то последний его назвал «твердая вода». Мысль папуаса проделала путь рекурсивной петли и опустилась на земную твердь.
Бросается в глаза ландшафтная увязка библейских притч. Здесь названы растения библейских земель, животные. Назовем ветхозаветные примеры: деревья, избирающие царя (Суд. 9,7-15), терн и кедр
доброе дерево и дурное (Мат.7.17-19), виноградная лоза и вет-
Рассмотрим русские народные притчи из «Сказаний русского народа» И. Сахарова. Четыре из приведенных у него притч фактические загадки (например, «шуринов племянник, какая зятю родня?»[25]).
Настоящий сюжет о зерне золотого века в восточнославянской традиции известен в другой форме. Там речь идет о колосе, зерно на котором было от самой земли. За грехи людей Господь стал убирать зерно с колоса рукой. Но собака успела его верхнюю часть убрать в свою пасть, и колос остался такой длины. Приведенная притча тоже о золотом веке. Но ее сюжет напоминает дальневосточный (у некоторых народов Вьетнама), где говорится о зерне риса размером с бревно, которое некогда с поля само катилось в амбар. Оно было неудобно для приготовления из него пищи и женщина разбила его на мелкие части. В русской версии Пшеничка – олицетворение женского начала, напротив, отстаивает ситуацию первоначальной благодати.
Русская версия мифа о золотом веке притчи «Замыслы» ближе к истокам мысли, нежели вьетнамская. В ней сохранено диалогическое начало и представлена топоментально-локализационная схема мышления. Четко разведены витально-гендерные полюса, что предупреждает о невозможности Эдиповых приключений. При всем том заметим, что история Эдипа у Софокла описана по правилам восходящей и нисходящей рекурсивной петли: в агональной схватке с отцом он побеждает и занимает его место, а потом, ослепнув, в сопровождении дочери он ищет себе могилу – мысль должна быть локализована.
В рассмотренных русских притчах нет еще патриархального мифа о греховности женщины или о ее первоначальном апокалиптически одиноком существовании. Сюжеты такого рода появились на окраинах древних высоких цивилизаций вроде китайской. Точно так же на Кавказе, соприкасавшшая с зоной ближневосточных цивилизаций, возникли вторичные «матриархальные» сюжеты, легшие в основу нартских эпических сказаний с прародительницей героев Сатаной-Сатаней и греческих сказаний о Медее.
Другие русские притчи, бытующие в форме загадки и требующие напряжения мысли (впрочем, чисто ритуального) для разгадки, отражают состояние творения мира. В результате таких усилий появляются элементы ландшафта: земля, из которой сделан горшок, – аналог человека, дорога, стихии и т. д.
В такой же роли творения мысли может выступать клятва, где указываются ландшафтные элементы вселенной. Клятва землей – всемирное явление. На Руси некогда клялись, положив землю на голову. Так в XIX веке делали крестьяне, когда был спор о меже. Подобная клятва упоминается Н. В. Гоголем в «Тарасе Бульбе». Эти клятвы топоментальны и суть обряды, лежащие на восходящей ветви рекурсивной петли мысли.
6. Ландшафт и витальность
Ландшафт как локализация мысли устойчиво хранит мифологию, повествующую о начале истории. У австралийских аборигенов части ландшафтов – это остатки тел бродивших некогда по земле тотемов. Это общечеловеческая, присущая всему Homo sapiens`у черта – культовое отношение к ландшафту. Стоит обратить особое внимание на то, что у Д.С. Лихачёва ландшафтная локализация положена в основу его культурологии через тезис о духовной оседлости[27]. Здесь принцип субъектности, присущий культуре, расширен и на природу.
Сказанное позволяет уточнить определение социоприродного ландшафта. Такой ландшафт представляет собой терриориальность, которая после нисхождения рекурсивной части мысли стала субъектной и виртуальной.
Ранняя форма субъектности – витальность в ее гендерном выражении. Об архаическом пространстве утверждают, что оно было по крайней мере двух родов: маршрутное мужское пространство и концентрическое женское (французский археолог-теоретик A. Леруа-Гуран[28]). Посадка растений и земледелие появились в концентрическом женском пространстве как знаки, маркирующие нисходящую ветвь мысли и создающие ландшафт.
Итак, социоприродный ландшафт – опросредованная энергия, через знамения и указания упорядывающая мир в его локальности с витальными последствиями для человека. Обособление полов – одно из таких исторических и постоянно поддерживаемых последствий.
Ландшафт структурируется, когда на него направлено мышление. Тогда мышление – вид витальности. Редуктивные локальности суть фрагменты, которыми работает мышление. Но тогда кажется, что элиминировано время. Все делается заново, все творится демиургически. Но это при мифологическом прочтении ландшафтной локальности. С точки зрения мышления время заложено в разрыве между восходящей и нисходящей ветвями рекурсивной петли.
7. О топологии мышления
К. Леви-Строс продвинулся в познании основ первобытного мифологического мышления. Он показал, что человек самой архаической культуры способен организовать свои аффекты, способен классифицировать и анализировать. В открытой им схеме конкретные чувственные свойства человека и окружающего мира выступают операторами мыслительного процесса. Если ворон питается падалью, что только что было животным, но еще не стало прахом, то эта птица занимает позицию медиатор между мирами и получает роль творца Вселенной. Так, у народов северо-восточной Азии и индейцев Северной Америки возник цикл мифов о демиурге Вороне. Этот способ мышления Леви-Строс назвал бриколажем (игрой отскоком)[29]. То, что делал Леви-Строс в своих объемных исследованиях мифов, сводится к анализу транзитивных переходов сюжетов на основе трансдукций. Но возникает вопрос: где оканчиваются эти трансдукции?
Вспомним эпизод с зеркалом у папуаса. У него земная локализация («твердость») – предикат целостности мира, в котором наличествуют все необходимые качества. Потому мир конечен, а значит, объясним. М.К. Мамардашвили для указания на эту интеллигибельность мира ввел «постулат конечности». Он показал, что благодаря помещению этого постулата на уровень идеальной системы отсчета, независимой от источников опыта, мы получаем «локальное совершенство» знания[30]. Мамардашвили в поиске терминологии называет еще постулат конечности «постулатом (виртуальной) понятности, или “континуумом-постулатом”». Для него важно, что локализованному уникальному смыслу предварялось состояние до свершения, которое он называет виртуальным и полем[31]. Этими словами Мамардашвили описывает то, что мы назвали рекурсивной петлей мысли. И не случайно, что описав этот «строй мысли», он все внимание уделяет проблеме локализации[32].
Мамардашвили рассмотрел топологию мышления на примере естестеннонаучного. Мы обнаруживаем, что эта топология универсальна. Даже архаическое мышление отскоком, изученное Леви-Стросом, частный случай этой топологии. Мы к ней прибегаем каждый раз в ситуациях, когда, казалось бы, нет никакого мышления. Вот мы встретились со знакомым и говорим «Здраствуй!» или «Добрый день!» Эта мысль, возникая топоментально, ушла к пределам мира, где хранятся ресурсы витальности и всего Божьего света. Потом мы говорим «Будь здоров!» и даже просто «Будь!», локализуя этот ресурс. Или: «Всего хорошего!» – тоже локализация блага.
8. Россия – макропространство
В данном исследовании нам предстоит в конце концов найти глобальное содержание концептуального мыслеобраза «антропология России». Иначе говоря, этнокультурное пространство страны будет взято как универсалия культуры.
Если история выявляет всеобщее и характеризует его универсалиями государства, общества, прогресса, пересматривая время от времени смыслы этих универсалий, то в антропологии подобные ревизии затруднены. Универсалия культуры «антропология России» стабильна в течение столетий, а то и тысячелетий.
Именно на универсалиях культуры был основан испытанный в антропологии сравнительно-типологический метод. Он был мной модифицирован в распределительно-топический в книге «Лекции по исторической этнологии»[33]. Теперь настал черёд этот метод преобразовать в топику России – герменевтику места России вообще и её мест (местностей), которые были изучены мной в ходе полевой этнографической работы.
Универсалия «антропология России», воспринятая населением страны как ценность самого высокого порядка, обретает чистый, внеопытный смысл концепта[34]. Концепт отличается от понятия тем, что сам он порожден одним или несколькими мыслеобразами[35]. Он не только эвристичен, но и даёт мотивацию действия, ценностное отношение, эмоциональную позицию. В отличие от понятия «концепт» нуждается скорее в прояснении, нежели в доказательстве.
В эвристических целях я предлагаю соединить смыслы концепта «Россия» со смыслами концепта «антропология» с тем, чтобы получить один философско-антропологический интегральный концепт «антропология России». Затем его нужно будет проанализировать как научно-практическую цель самоидентификации страны. Концепт «антропология России» позволяет сосредоточить внимание на проблеме места страны, ландшафтов её городов и сёл, роли её наследия, таких значимых символов, как опекушинский памятник А.С. Пушкину в Москве, чтобы в конце книги обратиться к основам родиноведения.
Антропология – наука, имеющая дело не просто с людьми обитаемого места. Антропологические отношения конкретного сообщества с территорией зависят от целостного и ценностного восприятия природы и такой же устойчивой связи этих людей со всем миром, которая тоже воспринимается как природная. Развитие антропологических знаний в Древней Греции шло с накоплением географических и исторических сведений. «История» Геродота тому доказательство. Подоплёка всему пространственная философия – человеческий ум хотел понять место своего города, Аттики, Эллады среди других мест и местностей. Сократу мы обязаны тем, что он поставил вопрос о нравственном месте человека. Итог античного развития антропологической мысли – во Вселенной есть место для каждого человека. Это мог ощутить даже раб, имевший право наряду со всеми участвовать в Элевсинских мистериях. Тогда Греция становилась для него родиной.
Проблема места подспудно двигала самосознанием людей, культур и цивилизаций, порождая то понятия кармы, то геомантики вроде фэншуй, то другие системы, включая астрологические. Концепции христианского или исламского миров тоже имеют отношение к проблеме места. Страна – особое место. Идентификация со страной от человека требует усилий. Вот Жанна д’Арк (1412–1431), родившаяся
Историю нашей страны можно изложить как гигантские усилия по осознанию своего места. От легендарного призвания варягов и слов князя Святослава (945–977) «Да не посрамим Земле Русские» до слов М. В. Ломоносова о том, что «могущество России будет прирастать Сибирью». До усилий тружеников и ратников прошлых времен. Да и до наших, ныне живущих, скромных, но тем не менее. Историк Н. М. Карамзин (1766–1826) был государственник. И поэтому писал именно «Историю государства Российского» в деяниях её правителей. Но историки М. П. Погодин (1800–1875) и другие славянофилы в ответ сочли, что историю творит народ. В. О. Ключевский (1841–1911) резюмировал, говоря в «Курсе русской истории» о совокупной роли народа и природных условий страны.
Ландшафт Центральной России однороден: он схож на всей Восточноевропейской равнине и для населяющих её народов наделен общей топоментальностью. Отсюда удивительное единство в принятии важных решений – ведь призывали варягов не только славяне, но также чудь и весь. Отсюда настрой толерантности, видный уже в «Повести временных лет»: Нестор одобряет индийских браминов за страх Божьей веры, сирийцев за отсутствие воровства. Это же не случайно, что сразу после взятия Казани составляется официальная «История Казанского взятия», где есть рассказ о храбрости татарских защитников города и с сочувствием передан плач царицы Сююмбеки о потере Казанью своей независимости.
Есть примечательный факт: первая в России кафедра этнографии была создана географом и этнографом Д. Н. Анучиным (1843–1923) в 1923 г. в Московском университете на географическом факультете. На том этапе шел поиск пространственных закономерностей этногенеза с привлечением помимо этнографии также физической антропологии, археологии и лингвистики. Эти взаимно дополнительные связи сохраняются до сих пор. Этногенез в традиции московской анучинской школы – это заселение народом места, эмпирически в конечном итоге создающего страну. Но страна ведь порождается постоянно усилиями её народа. Поэтому в данной работе особенно выделен ландшафт, который, наполняясь мыслью и чувством его обитателей, становится местом России.
В самой неожиданной ситуации человек задается общефилософскими вопросами. В молодости я вёл полевую этнографическую работу в Восточных Саянах у тофаларов[36]. С проводником по имени Николай мы ехали по тайге верхом на оленях на горные пастбища. Я старался изо всех сил не свалиться с обрыва в бурную речку. И вдруг Николай, который, двигаясь впереди, что-то напевал и предупреждал меня о трудных местах, спрашивает, историк ли я. «Да, говорю. Я окончил исторический факультет МГУ». «Объясни мне тогда, как это так: годы идут вперед, а которые раньше – назад». Я объяснил. Но только много позже, занявшись восприятиями времени в разных культурах, понял причину того вопроса. У некоторых сибирских народов время – солнце, которое в первую половину года поднимается по телу с правой ступни к макушке и опускается к левой ступне, идет назад. Не отсюда ли наше выражение «макушка лета»? Мой тофаларский друг мыслил местом своей культуры.
Раньше я считал, что тайны времени загадочнее тайн пространства. Но и пространство, казалось бы, такое очевидное, тоже заслуживает вопроса моего сибирского товарища. И ответить пришлось бы, привлекая все достижения философского мышления. Может быть, изложить суть книги В. А. Подороги, проанализировавшего мысль лучших европейских философов о ландшафте, через который проявлено человеческое бытие[37]. Бытие лесного охотника проводника-тофа выступает его ландшафтом, который обусловил место задавания его вопроса.
Я живу в небольшом городе под Москвой. Как-то еду в автобусе. Одна женщина, стоящая у выхода, спрашивает у пассажирок (это в основном женщины, возвращающиеся с покупками с рынка): «Какая будет сейчас остановка?» Возникает дискуссия. Кто говорит «Победы», кто «Жукова», большинство же было убеждено, что «Детский садик». На обратном пути я вышел там посмотреть на табличку. Оказалось: «Улица Победы». Отношение этих женщин к победе в Отечественной войне и к маршалу Жукову безусловно положительное. Но место их забот – воспитание детей и поэтому детский сад напротив остановки стал главным ориентиром данного городского ландшафта и отправным местом их мышления. В принятой мной терминологии – топоментальным местом.
Ландшафт, городской ли, сельский, национальный всегда топоментален. Ландшафт мной рассматривается как такая концентрация сознания и опыта, которая способна дать новые мотивации существованию и свободе.
9. Снова об этнографии, о народной культуре
Процедуры понимания описываются герменевтикой. Какой характер последняя должна носить, если двигаться с помощью антропологических средств к познанию народной культуры общности самого высокого ценностного уровня, т.е. страны? Очевидно, что к определению того, чем является «антропология России», мы сможем подойти с позиций этих всеобщих начал, герменевтически поставленных вровень с предметом исследования. Вот тут-то концепт «антропология России» встает рядом с рассмотренным выше концептом ландшафта. От такой близости обоих концептов при анализе антропологии России надо снова актуализовать испытанные средства этнографии.
Противоречивые, казалось бы, процессы происходят в антропологии. С одной стороны, в виде ли культурной (социальной) антропологии, в виде ли этнографии или этнологии она становится всё более популярной. Виден массовый интерес к антропологической эмпирике. С другой стороны, антропология, ставящая вопросы о судьбе цивилизаций, сближается с философией. Несомненно, что глобальным тенденциям в общественной жизни соответствуют не менее значимые корпоративные, локальные и этнические факторы. Дело в том, что антропология, прежде всего, интегративная наука. Даже в том утверждении, что этнография считается наукой об описании культуры народов, есть определенный и еще мало проанализированный смысл. Этот смысл аналитический, и заключается он не только в необходимости при анализе самых исключительных реалий культуры подводить их под общие категории. Сущность таких реалей эзотерически скрыта, воспринимается через призму нуминозного и ближе всего к ней подходят методы, развитые на материале неравновесных систем. Эти методы разрабатываются в лоне синергетики.
Примечательно, что этнография развивалась в Европе на почве оформления самосознания европейской цивилизации (общей категории) путем противопоставления частному, маргинальному (этим качеством наделяли всё народное), этническому и экзотическому. Поэтому у этнографии есть самостоятельные цели, отличающиеся от целей этнологии, обращенной к изучению организованностей культуры. Столетиями этнография выполняла свою историческую роль и была удовлетворена своим статусом описательной науки с позиций западного сообщества.
Но где сейчас этнографии черпать свои познавательные и описательные средства? Они находятся среди наших возросших знаний о культурах, изученных этнологией, и о человеке, то есть в той области знаний, которая суммируется антропологией и философией. Если этнография осознанно будет использовать средства последней, то она необходимым образом будет выступать в виде философско-антропологи-
Значение философских оснований антропологии, обращенной к актуальным проблемам современного общества, стало определяющим. Антропология уже никак не наука о чем-то частном. Через этнологию она удерживает свой общий подход – сравнительно-типологический метод. Он представляет собой комплекс генерализирующих и дифференцирующих процедур. Особое внимание к вариантам и фрагментам человеческого бытия его постоянная отличительная черта. Это не просто внимание к региональным особенностям культуры, но наличие продуманных целей, задач и средств для обнаружения механизмов, по которым варианты и фрагменты могут делаться общим стандартом. Например, какой-нибудь локальный праздник вроде карнавала или Хэлоуина почему-то превращается в национальный или всемирный и т.д.
Роль фрагментарности культуры была подчеркнута в исследованиях философа и античниковеда М.Н. Петровым. Его позиция для нас столь значима, что придется привести один его замечательный «фрагмент». Он писал: «Методологическую оправданность разработки трансляционно-трансмутационного отношения как универсалии социального развития любых типов мы видим и в том, что эта универсалия позволяет освободиться от христианско-европейского предрассудка о неразвитости, неполноценности и даже «ложности» других социальных типов: знак, знание, общение, трансляция, трансформация, фрагментация входят в условия существования любого общества, без них общество погибло бы либо мгновенно от срыва трансляции, либо через некоторое время от рассогласования между транслируемыми формами деятельности и экологическими условиями в среде обитания, т.е. погибло бы по той же причине, по которой вымирают и гибнут биологические виды. Природа никому не делает скидок на незнание, невежество, неумение приспособиться, поэтому миф о «невежестве» плутающих во тьме незнания язычников – чисто европейский продукт неосведомленности в типологии культуры, результат попыток рассматривать другие культуры через очки европейского социального кодирования, через призму другой системы смысла»[38].
Взгляд на мир как на непрерывно раскалывающуюся на фрагменты картину мира так же развивал М.К. Мамардашвили[39]. В ипостасях народной культуры фрагментарность соответствует ментальным мыслеобразам и субстанциальным теметизмам.
Идеи М.К. Петрова и М.К. Мамардашвили соответствуют современной позиции свободного действия и адекватны духу предпринимательства: здесь человек, разоформляя и достраивая картину мира, относится к ней проективно – как к возможной среде обитания. Тем самым реализуется родовая сущность человека, вызревшая в недрах народных культур.
В построении общечеловеческой картины мира мы видим положительное содержание глобальных процессов: свободного предпринимательства, международного перетекания капиталов, перестройки функций государства и повышения благосостояния людей и их свобод. Нельзя лишь забывать, что при этом стремительно возрастает символический капитал ресурсов, ландшафтов, этносов, культурного наследия и интегральный символический капитал всей России.
Жизненный мир России – это ландшафтные, натурально-вещные, витальные и ментально нуминозные реальности, обозначенные концептом «антропология России». Он нуждается не только в гуманитарно-философской экспертизе[40], но и а осознании того, что в состав данного концепта входит волевое усилие быть ему причастным, найти своё собственное место.
РАЗДЕЛ 3ГЛАВА 4КОНЦЕПТ ЧЕЛОВЕКА(компетентность и традиция)
1. Топическая виртуальность
Как дать краткое определение науки? Естественно, что ответить на подобный вопрос содержательно и формально-логическим способом, т.е. фразой «это наука о…», нельзя. Даже не только потому, что наука – не «как это делается?» Это только ремесло. Наука состоит в ответе на вопрос «как это не делают, но это возможно?». Иначе говоря, наука – ее ответ на философские вопросы о ней самой же. Иначе говоря, это вопрос о ее легитимизации. Попробуем так подойти к фольклористике.
Конечно, наука развивается, когда границы ее предмета, определяемые методологически, шире ее фактологической базы, которая постоянно расширяется. Это хорошо видно на примере фольклористики, которая со времен братьев Гримм шла от устного «народного» (точнее, крестьянского) горизонта к более широким горизонтам вроде народных промыслов и танцев. Наконец, к актуальной проблеме выразительных способов корпоративной идентичности, что особенно выражено в англосаксонской науке.
Исходная связь западной фольклористики с литературоведением долго была непоколебимой – вплоть до выдвижения проблемы исполнения (перформанса) в 1970-е гг. Сейчас стало ясно, что и эта проблема – лишь расширение поля науки в сторону образных и коммуникативных средств. Но поэтика выразительных средств не может покрыть собой весь предмет и методы фольклористики. Всякие расширения поля в подобных случаях не касаются философского ядра науки. В сущности, это старый позитивистский подход периода становления науки, связанный, прежде всего, с накоплением фактов.
Позитивистское безразичие к философскому ядру науки в нынешние времена оборачивается недоверием к «сверхфразовому уровню», или «экстралингвистическим структурам». В фольклористике это приводит к разрыву между кабинетным теоретизированием и практикой фольклористики в ущерб последней. То, что в таком подходе было внерациональным и, следовательно, вненаучным, оказывается допустимым инонаучным в современной теории познания.
Для нашей тематики актуально рассмотреть активнейшую роль субъекта в построении картины мира. В фольклористике этот субъект почти безличен, его присутствие неявно или отношение к нему отличается наивным реализмом. Если мы поймем, почему это происходит, то найдем искомую специфику фольклористики, способ ее легитимизации.
В отечественной фольклористике большие усилия были направлены на поиски предмета в сфере народной культуры или народного быта и соответственно на установление связей с этнографией (П.Г. Богатырев, Б.Н. Путилов, К.В. Чистов и др.). Этнографическое направление в значительной мере обязано основополагающим трудам П.Г. Богатырева и В.Я. Проппа. Поучительно проследить общий ход методологичекого мышления последнего. Тем более, что некоторые работы Проппа, как, например, «Фольклор и действительность»[41], несут явный философско-методологический потенциал.
В указанной работе автор формулирует тезис о недостаточности приемов литературоведческого анализа для объяснения специфических структур фольклора. Относясь к тексту как к исторической данности, Пропп в сущности освободил себе путь для герменевтических процедур и даже герменевтической реконструкции истории общества. На этом диалектическом пути гипотезы обретают характер средств, с помощью которых автор выдвигает новые гипотезы. Это доказывает наш тезис о том, что Пропп работал с самой сущностью фольклористики, с ее философским ядром. Но сомнения обозначали путь его. В «Морфологии волшебной сказки» он нашел функциональные места – сетевую систему топов, основу его герменевтики. Но в «Исторических корнях» он должен был разоформить эту целостную систему, чтобы в столкновении сущего с реальностью увидеть содержательно новые наполнения топических мест.
То, что создает алгоритм взаимодействий этих топических мест, теперь мы называем виртуальной реальностью. Включенные в нее фольклорные представления обладают чертами не только эстетических образов. Они имеют за собой сложную ментальную и рациональную историю. Они суть мыслеобразы – не только выразительные, но и когнитивные средства, ориентированные на смыслы. Теперь становится понятной странная, казалось бы, для Проппа книга «Русские аграрные праздники»[42]. В ней он был занят деятельной стороной обрядов, в которых видел трудовое крестьянское начало. Но Пропп чувствовал, что за этой стороной укрывается мышление. Эмпирически он вскрыл глубинные пласты мышления, вплоть до невербальноого уровня.
Возможно, что из-за универсальности мышления Пропп в своем творчестве вроде бы не проявил интереса к региональной стороне фольклора. Но «Русские аграрные праздники» эту функцию выполняют: они демонстрируют локально-региональное порождение мысле-образов в русском фольклоре – его топоментальность. Традиционный русский фольклор, который изучал Пропп, весь порожден национальным ландшафтом, т.е. географической средой, не только преобразованной крестьянским трудом, но и наполненной идеальными смыслами. Так сейчас надо прочитать трудовую теорию Проппа, которая была не просто его данью своему времени, но результатом работы ученого с философским ядром своей науки.
Каждый исследователь его находит по-своему. Нам не обязательно идти, как Пропп, от поэтической морфологии через историческое разоформление к неморфологической картине праздника, где обнаруживается континуальное табло природных циклов и вообще природы. Нам достаточно уяснить, что Пропп это делал герменевтически: стремился показать нечто в фольклоре, а вовсе не доказать. Он сам это утверждает в упомянутой работе о действительности. Локально-ландшафтную, национальную обусловленность фольклора можно только показать. Как и то, что через фольклор высказывается природа, в континуальности которой фольклор нуждается, так как он сам состоит из фрагментарных жанров, будь то нарратив или изделие народных мастеров. За «недоделанностью» этих вещей, созданных по принципу «аки от руки», как и за первичной недостачей в волшебной сказке, проглядывает природа, это ее высказывания. Слово в фольклоре тоже нормировано и даже запретительно или заклинательно – тоже знамение природы.
Чтением таких знамений фольклор себя легимитизирует. Природа в фольклоре читается. А человек? В том-то и дело, что человек в нем не узнан, как пепельный герой (персонажи вроде Золушки), как Иван-дурак, как Василиса Прекрасная, как создатель бытовой вещи народного обихода. Все они в обмен на свою неузнанность получают благодать, исток которой в архетипическом поле континуальности. Это та самая виртуальная реальность, где узнана и фрагментно маркирована природа, а человека нет, но зато он свободен преодолевать дыры бытия, о которых говорил нам М.К. Мамардашвили, предвидевший, кстати, виртуалистику[43].
Виртуальный мир неморфемный. А человек в нем настолько полон всяческими субъектностями, что естественен, не персонифицирован и поэтому всегда понятен другим, людям других этнических традиций. В фольклоре человек себя показывает, ничего не доказывая. Очевидно, это и есть философское герменевтическое ядро фольклора. У создателей последнего оно эстетически защищено знаками достоверной правды.
Мы обрисовали сейчас несколько типологически важных черт народной традиции, для которой значима выразительная образность, чтобы затем снова перейти к основному вопросу о человеке. Концепт человека в народной культуре неоднороден и неконстантен, иначе говоря, виртуален. Он визуально-образный, иконичный. До сих пор в Поволжье можно увидеть девушку, одетую в ярко вышитое платье, сделанное руками ее бабушки. Девушка так одета по особому случаю. Это ее роль. В другой ситуации, исполняя иные роли, она будет одета иначе. Выйдя замуж, она совершенно изменит костюм и стиль поведения. С возрастом, с рождением детей у нее будут меняться даже способы завязывания головного платка. Костюм как стереотипизированный тематизм живет в традиции. Но весь жизненный путь человека этой традицией вовсе не поглощен. Девушка может и не сохранить костюм бабушки и создать собственный, она может не выйти замуж, может родить ребенка без замужества, быть из богатой или бедной семьи и т.д. Ее поведение и костюм будут эмблемами ее состояний.
Избыточность организуется с помощью эмблем. Функция эмблем состоит в таком ограничении ресурсов избыточности, чтобы остались ситуационно необходимые знаки – знаки достоверности. По этим знакам узнают человека. Вернувшийся Одиссей был сначала узнан служанкой Евриклеей по шраму на ноге, а только затем по другому знаку достоверности – своему луку. Одиссей всегда самотождественен и по нраву. Ахиллес гневлив. А Гильгамеш, царь Урука, герой шумерского эпоса, сначала буянил, а потом от скуки оставил свой город и пошел странствовать. Атрибут, т. е. знак достоверности этих персонажей, – их нрав.
2. Нрав – содержание концепта человека
Концепт – «как бы понятие». Он незаменим при постановке вопроса о человеке в народной культуре. В определении концепта Ю.С. Степановым подчеркнуто активное пользование им со стороны носителя культуры. Обратим внимание на то, что концепт человека в народной культуре направлен, скорее, на другого («будь человеком!», «он – человек!»), чем на себя. Другому мы изредка говорим: «Ты бессовестный», а о себе сказать «я совестливый» язык не поворачивается. Выражение «я – человек» (в нравственном смысле) о себе вообще невозможно. При этом мы все же стараемся действовать так, чтобы о нас сказали «он – человек». Получается, что качество человечности исходит извне. Но потаенные источники человечности сокрыты. Народная культура эзотерична.
Использованию в быту слова «человек» присуща скользящая асимметрия, вызванная тем, что этим словом мы относимся к чему-то динамическому в нас, но что получает морфологическую завершенность после внешней оценки. Таков нрав человека. Его проявлениям свойственна морально-психическая подлинность, которая указывает на этическое сгущение в избыточном пространстве. Нрав – это аристократическая подлинность. В народной культуре аристократизм сокрыт, он ненавязчив, ибо проявляется поведенчески, а не стереотипно и не генеалогично. Потаенный поведенческий аристократизм проявляется также фольклорным словом, которое произносится вовсе не от лица говорящего, а отстраненно, как всем известная истина.
Если нрав сказался в нашем собственном поступке, то его мы стыдимся. Это в современности совесть охватила весь нрав. А исходно, в архаике нрав представлял собой сгущение витального принципа в человеке, иначе говоря – душу. Она тоже нечто, возникающее вне человека и в него вложенное. Аристократическая верность своему нраву в античности называлась virtus.
Через нрав действуют неконтролируемые силы. И не общественные, а природные. В Древней Греции до того как за словом «этос» закрепилось значение «нрав», оно означало «стихии». Исторически в нрав вошли смыслы плохо контролируемого желания, влечения или отталкивания. В этих ситуациях мы говорим: «Мне нравится то-то...» или «Это не нравится». В проявлениях нрава есть остаток стихийности, хотя человек с природной сцены ушел на сцену культурную. Декорации из природных сил, обобщенно именуемых стихиями, сменились на декорации ближайшей, созданной руками среды, которая сделалась ландшафтом. Переменчивость нрава стала маркировать незавершенность наших состояний. И все это, попав в сферу культуры зависимых слоев общества, оформилось традицией. Тогда появилось историческое ограниченное понимание народной культуры как основанное на традиции-образце. Исходно же поведенческое, дистанцированное и потому сознательное отношение к традиции как идеалу. Такое последнее понимание традиции-идеала укоренено внутри мировых религий, в которых выражено понятие «совершенного человека».
Вне мировых религий нрав остался системой, соотнесенной, с одной стороны, с природой, а с другой – с этикетом. Если проявления последнего престижны и публичны, то проявления нрава, которые неизбежны, замаскированы превращением их в мотивации поступков. Это может выглядеть как бескорыстное благородное поведение воспитанного крестьянина или порождать потрясающие эстетические шедевры. Украшение русской избы резьбой стоило столько же, сколько сруб, и оно иносказательно выражало нрав хозяина. Для маскировки прямого проявления нрава используют любые средства: модную резьбу или заимствованную одежду. Изготавливают эти вещи-маски люди сами для себя или приобретают на собственные деньги. По вещам судят о нраве человека. Например, по вышивке не так давно повсюду судили о нраве женщины. У чеченцев по войлочному ковру, сделанному девушкой, сваты узнавали ее характер как невесты и даже состояние ее здоровья. Некоторым народам известен обычай иметь личную песню, ею можно обменяться с понравившимся человеком. У Гомера царь Одиссей сам делает свою кровать – тоже проявление его нрава.
Вещи, скрывающие нрав, одна большая, состоящая из множества предметов маска. Правила игры в театре народной культуры учитывают эстетический язык условностей.
До современной эпохи различия нравов имели значение различий культур. Геродот в V веке до н. э. показывал отличие нравов египтян от греческих: женщины у первых торгуют, у греков ткут; у египтян уток идет вниз; мужчины тяжести носят на голове, а женщины – на плечах; женщины мочатся стоя, а мужчины – сидят; естественные надобности справляют дома, а едят на улице; нет у египтян женщин-жриц; дочери у них содержат родителей[44]. В древнерусском языке нрав практически приравнивался культуре и отличался от языка. Так, «Новгородская летопись» XI века утверждала: «На 70 же и на един язык разделишася и роздашася по сторонам, и кай ж до них свои нравы приняшт...»[45].
Концепт нрава был в большом ходу, когда европейская наука описывала аборигенов далеких земель и свой собственный народ. Публикации модно было называть «Нравы и обычаи». Работа аме-
Нрав непременно входит в описания чужих этносов, которые даются по формуле: внешний облик – нрав – территория[47]. Заметим сейчас, что нрав нефункционален и занимает центральное положение в формуле, а первая и последняя части не определяют, но стабилизируют нрав физическими фиксируемыми средствами-морфемами. Морфемы служат хранилищем нрава, который представляет собой содержание концепта человека. В этом случае морфемы не символы, а указательные эмблемы в составе этнического образа.
Другая картина раскрывается в описаниях самих себя, своего этноса. Здесь нрав выдвигается на первое место. Так, эскимосы верили, что европейцы появились в Гренландии ради знакомства с их хорошими манерами и достойным поведением[48].
Структура этнического образа соответствует концепту архаического человека, тело которого внутри себя заключает нрав. Этот нрав в архаике с трудом поддается контролю. Нрав архаического человека вообще неустойчив. Это, например, отметил К. Леви-Строс, исследовавший в 1930-е годы южно-американских намбиквара[49]. Но и современному человеку нелегко справиться с нравом. Нрав как будто живет в нас и вне нас. Поэтому нрав находится на том месте в составе человека, которое в другой системе координат принадлежит душе. Она тоже не нами созданное начало, способное нас покидать в каких-то ситуациях.
Проблему бесконтрольности нрава обсуждала древнегреческая трагедия. Там нрав пугающе независим и выступает в роли рока. В истории если и заметен какой-то прогресс, то это касается улучшения нравов. «Повесть временных лет» боролась со «скотскими обычаями» древлян, которые, как мы помним, «убиваху друг друга, ядяху все нечисто и браки у них не бываше, но умыкиваху у воды девиця». Но очевидно, что довести нравы до совершенства никогда не удастся по той простой причине, что в них есть нечто природное и витальное. Не справившись с этими внешними трудностями, наука отступила от проблемы, намеренно от нравов устранившись, и с энтузиазмом занялась более безопасной темой повседневности, стереотипов и т.п.
Итак, нрав – соотнесенный концепт, резко не отделенный от жизнедеятельности и витальности. Функция нрава состоит в описании мотиваций человека. Нрав – поведенческий концепт, который направлен на ориентацию в условиях избыточности, даруемых природой, и на культуру, вводящую ограничения. В народной культуре он используется в биологизирующем смысле, выполняя задачу встраивания человека в природу, в данный ландшафт и в его собственное тело.
3. Этнологические средства
Какими же средствами составлен концепт человека в самой народной культуре? Как человек этой культуры пользуется концептом самого себя в отличие от концептов пищи, жилища, семьи и т.п.? Почему внутри культуры концепт человека аффективен и почему нрав служит определяющей чертой этого концепта? Почему противоречивую независимость жизнеобеспечения и нрава нужно дополнить анализом третьего концепта – витальности?
Пока же отметим, что эвристическая сила концептов ограничена, поскольку они отражают отдельные, порой совершенно автономные фрагменты культуры. Поэтому любое этнологическое исследование трудоемко: приходится, рассмотрев один концепт, переходить тут же к другому, третьему и т.д., чтобы понять скрытые механизмы трансляции и развития даже отдельного элемента культуры (тематизма). Тем более, что работа со множеством концептов необходима при обсуждении общих вопросов. Одни концепты, разработаны в одной культурной традиции, а другие – в традиции, от нее удаленной в пространстве и во времени. Приемы, решающие эту проблему, в этнологии и фольклористике связаны со сравнительно-историческим методом.
Он был особенно любим классическими эволюционистами вроде Эд. Тейлора и Дж. Фрэзера. Если сейчас мы прибегаем к сравнительно-историческим доказательствам, то это будет уже не прежний классический метод. Сравнительно-исторический подход к проблеме человека в народной культуре на современном уровне науки можно охарактеризовать тремя основными положениями.
Первое. Приводимые данные должны быть взяты с учетом исследователем личного опыта полевых исследований, направленных на сравнительное изучение разных культур. Только полевая работа этнографа и фольклориста позволяет обнаруживать скрытые концепты, которым не придают значения носители культуры или утаивают как нечто чрезвычайное. Так, мне удалось обнаружить в крестьянском жилище Подмосковья признаки ценностности жилого пространства в устройстве наклона пола от икон к порогу, в наклоне плоскости окна и т.д. Удалось это сделать только благодаря плотницким работам совместно с мастерами – знатоками старой традиции. Скрытые концепты оказываются универсалиями, как оппозиция верх/низ, реализуемая устройством наклонного пола и связанными с этим особенностями поведения (мытье пола, начиная с переднего угла, его табуация в повседневности для чужих и открытость для них в случае смерти члена семьи и прочий этикет поведения в русском крестьянском доме).
Наиболее скрыты концепты, относящиеся к человеку, к его витальному поведению, например сексуальному. Это контрастирует с демонстрируемостью в народной традиции внешней культуры, что всемерно подчеркивается эстетически. Концепт человека этичен и не нормативен. Он даже не вербален, ибо настаивание со стороны исследователя дать объяснение такого концепта самим носителем культуры превратило бы концепт в некую норму. Да и никто этого не будет делать. Здесь личный опыт этнографа или фольклориста просто ничем незаменим.
Второе. Исторически зафиксированный факт должен разоформляться до элементов, образующих в новом сочетании эвристическую систему. Примером такой можно назвать закон семантического ряда, скажем, этнонимов: если этноним означает «люди леса», то рядом обязательно будут обитать «люди полей». Семантический ряд образует имя богини охоты Артемида («Медвежатница») и чуть ли не всемирное представление, что медведь – это превращенная в него женщина. Девственная Артемида оказалась богиней родовспоможения, потому что она с братом Аполлоном находится в семантическом ряду, где за женским зародышем следует мужской, а эта цепь эмбрионов начинается животным. Здесь животное не символ человека (и не тотем, религиозный образ), а эмблема эмбриональной цепи, находящейся вне человеческого общества где-то в природе. Иначе говоря, семантический ряд эмбриональной цепи – способ изначального введения природы в представление о человеке. Разоформление (деконструкция) до смысловых элементов факта, до деталей методологическая позиция вообще этнологии как науки, обсуждению чего уделено место в недавних моих публикациях[50].
Наконец, третье. Опираясь на междисциплинарный подход, необходимо строить идеальный конструкт, в данном случае научно реконструируемый концепт человека. Полученный идеальный конструкт, соответствующий реальному целостному концепту человека, будет отличаться от него разрывами, которые дадут необходимую возможность для проблематизации нашей темы, для введения в эти разрывы нашего вопрошания. Ведь идеальный конструкт – это методологическое искусственное средство, которое в отличие от реального человека выдержит насилие научной рациональности.
Такая герменевтика (не текста, а человека) требует не максимального объективистского приближения к предмету исследования, а уважительной дистанции, обеспеченной все тем же сравнительно-историческим методом. Осторожность дистанции раскрывает глаза на локальные формы жизни и спасает от притягивания данных за уши в схемы амбициозных генерализирующих теорий.
4. Пример мыслеобраза человека:
Абстрагированный образ человека не характерен для народной культуры. Он представлен в господствующей софистизированной, ныне господствующей культуре. В культуре же народной образ человека соотнесен с образами природы, неразрывно с нею связан. Поэтому речь должна идти собственно не об образе, а мыслеобразе, где человек выделяется ситуационно, виртуально. Можно сказать, философски. В качестве примера рассмотрим соотношение мыслеобразов женщины и коня.
Крупнейший французский археолог Андре Леруа-Гуран с сотрудниками доказал, что в палеолитических пещерах Франции и Испании в самой глубине их древний человек изображал возле женщин быков, а лошади встречаются в основном у входа в пещеру. Бык сопричастен репродуктивному времени женщины в силу своей лунной природы: у него рога, как полумесяцы, и раздвоенные копыта. Можно сказать по-другому: бык – это внутреннее пространство женщины. Бычьи рога и скульптуры женщины нашли в святилищах древних ближневосточных культур (Чатал-Хуюк). Лошадь в жизни женщины играет другую роль, она выступает маркером внешнего, чуждого ей мужского пространства. У адыгов и украинцев на Волыни, у немцев Западной Сибири бытует обряд, когда сват въезжает в дом невесты верхом на лошади. Лошадь здесь означает приблизившееся к девушке пространство жениха. Сидя на конях около родников, парни заигрывали с девушками у чеченцев и ингушей. У последних народов я записал миф, согласно которому менструации были некогда у мужчин и они доставляли неприятности при верховой езде. Одна сестра пожалела своего брата и взяла месячные кровотечения себе.
О чем этот миф? Исторически он дошел от скифских времен. Сохранились сведения, что среди скифов было много «женоподобных» мужчин (энареев), они страдали «женской» болезнью. Скифы-кочевники и этнографическая реальность донесли информацию о том, что первым наездником была женщина. Это было маркировкой (эмблемой) ее брачного состояния. Такой обычай породил предание о воинственных амазонках и старый чеченский обычай девушкам-первенцам участвовать верхом в походах ради получения права выйти замуж. Цветное платье такой воительницы было знаменем отряда. Знамена вообще происходят от женских платков. Проследим культурогенную логику обычая: витальная эмблема состояния женщины (лошадь) захватывает всю эмблематику женщины в целом (ее платье и косынка), затем эти вещи делаются социальными эмблемами. Связь женщины брачного возраста, но незамужней с эмблемой лошади осталась кое-где в верованиях восточных славян о русалках, которых иногда изображают в виде лошади. Образ русалки основан на сексуальной неудовлетворенности девушки, достигшей брачного возраста. Этот образ законсервировал одно из состояний женщины и должен рассматриваться в одном круге сюжетов с амазонками. В нем лошадь и всадничество вообще эмблемно маркируют переходное состояние человека с присущей обостренностью побуждений и влечений. Лошадь знаменует порубежную ситуацию. Русское выражение «Где конь не валялся» хорошо описывает такое еще неосвоенное пространство. В народных евангельских сюжетах конь маркирует неосвоенное и даже враждебное Христу пространство: он в отличие от вола съел сено из яслей, где лежал Христос, и был за это проклят Богородицей[51]. В шаманских представлениях народов Сибири конь может быть заменен на другое ездовое животное – оленя или на музыкальный инструмент – бубен. В протошаманских воззрениях, фиксировавшихся мною на Кавказе, сохраняется более исконная эмблематика коня как побудительной силы, направленной вовне. В ведийские времена в Индии существовал царский ритуал жертвоприношения коня (ашвамедха). Начинался обряд с того, что царь ради захвата земель выпускал на свободу коня и с войском следовал за ним, подчиняя правителей тех стран, где оказывался конь. Этот поход длился год, а потом он завершался собственно жертвоприношением. Обратим внимание на то, что такой же поход по следам коня совершался в случае, если царь хотел получить потомство[52]. Конь олицетворял женское начало и на другом конце индоевропейского мира – у кельтов, которым был известен ритуальный брак короля с лошадью[53].
Мы обнаруживаем, что образ человека в народной культуре фольклористичен в том смысле, что наполнен виртуальной, а не обыденной реальностью. Он конденсирует в себе большое ментальное напряжение, являясь мыслеобразом, средством мышления. Предикат перемещаемости был присущ лошади со времен палеолита. Почему люди тысячелетиями проявляли интерес к тем или иным маркировкам перемещаемости, чтобы построить свой собственный мыслеобраз?
5. Человек как вещь и ее хранилище
Как было выяснено ранее[54], предикатами вещей являются соразмерность их телу человека, перемещаемость и хранимость. Соответственно вещь носима, может менять владельца и быть спрятанной. Изначальные качества вещей мы обнаруживаем уже в палеолите. Археологи обнаружили в отдалении от обиталищ древнего человека скопления оббитых речных галек непонятного назначения. Ясно, что эти гальки отвечают статусу вещей. Недоумение вызывает только скол. Он обнаруживает структуру и цвет камня. Скол – это визуальность. Следовательно, мы должны отметить еще один предикат вещи – ее визуальность.
А, сделав это, мы оказываемся среди бесчисленных этнографических примеров, когда вещь демонстрируют. Прибытие невесты в дом жениха является поистине праздником смотрения вещей. Но позвольте, до этого ведь были смотрины невесты, она тоже вещь? Вот именно. Удивительно, что и по сию пору по правилам невесту берут издалека, а жених ее находит не сам, но высматривая глазами сватов.
Женщина хранима, потому что имела предикат вещи. Как вещь она «перемещаема». У чукчей до сих пор жених должен догнать девушку – бегунью, чтобы она стала его невестой. Для этого, в сущности, бегали также девушки-спартанки. Теперь понятно, почему в свадебных обрядах появляется конь?
Но вот невеста появилась в доме. С ней приходит благополучие. Это функция вещи-талисмана, состоящая в привлечении счастья. Есть люди, по природе своей являющиеся талисманами. Считается, что у них «счастливая нога». На Кавказе такой человек обходит всех соседей в первый день Нового года. Человек-талисман делается таковым благодаря перемещаемости. Этим предикатом наполнен гость. Он необходим, ибо приносит счастье.
Закрепляется счастье на теле человека амулетами. Их подвешивают шнурками. Человек в амулетах становится личностью. Шнуры и аксельбанты – знак личности. Знак того, что брахман дважды рожденный, – его веревка. Человек архаической культуры может быть абсолютно гол, но на поясе все же будет иметь шнурок. С него началась одежда. Но и без одежды человек все равно облачен культурой. Австралийский абориген, придя на другой конец континента, объясняет свою фратриальную и брачно-классовую принадлежность, касаясь определенных мускулов своего тела. Его личность, его человеческое состояние вывернуто, вынесено мускулами на поверхность тела. Вот почему один туземец сказал белому: «У нас все тело лицо».
Внутренние субстанции тела человека годятся для эмблем социальности. Мир порождается из изрыганий шамана (у народов Амура), из экскрементов койота (американские индейцы). Да и в нашей культуре «веселая материя» несет важные культурогенные смыслы, что было показано М.М. Бахтиным в книге о Франсуа Рабле.
Идея вещи и ее хранилища – одна из центральных в культурогенезе и глоттогенезе. В русском языке слово «туловище» происходит, по В.И. Далю, от глагола «тулить» со значением «прятать, скрывать»[55]. Дырка – это емкость-хранилище и зрения (однокоренное слово «зрак»), и «дерьма». Темнота – хранилище не только света, но и вещей. Дракон – греческое слово со значением «островидящий». Он порождает культуру. Глазки орнамента украшают керамику с неолита. Разбить посуду («убить дракона») – к счастью.
6. Жизнь в зоне риска
Целостное витально-природное задавание человека в народной культуре обладает специфичными чертами. Рассмотрим их на примере «Указателя основных тем, сюжетов, мотивов и ритуальных действий» из недавно изданной монографии Т.А. Агапкиной и посмотрим на наиболее полную рубрику «Человек». Здесь указаны следующие сюжеты, которые касаются этого самого целостного человека (цитирую без страниц): «С Благовещения / Юрьева дня можно ходить босиком / без верхней одежды сушить белье на улице / раскрывать зимние окна / белить холсты в источниках. На Благовещение / Сорок мучеников / Пасху / Юрьев день можно начинать громко петь на улице / играть на музыкальных инструментах. После Благовещения можно спать на улице и нельзя спать днем. После Благовещения надо вставать рано, чтобы весь год быть бодрым и работящим. Будить домашних ударами свежей зелени с пожеланием бодрости на весь год. Нельзя спать в Пасхальную ночь / в Юрьев день, иначе лен и хлеб полягут / зарастут сорняками / будешь весь год сонливым и ленивым / будешь страдать бессонницей / отнимешь сон у детей, ягнят. Передавать свою сонливость, дремоту другому человеку или растению: “Кизил, возьми мой сон”»[56].
Странно в приведенном тексте выглядит человек. Бросаются в глаза такие черты его задавания: 1. Состояния человека описываются состояниями природы; 2. Нормальная жизнедеятельность его часто задана негативно, по принципу «чего нельзя делать»; 3. Через настоятельное внимание к опасности сна подчеркивается значимость ночного времени; 4. Большое внимание уделено здоровью, которое прямо не названо, но подразумевается. Скрытый концепт его состоит в том, чтобы выполнять рискованные тяжелые работы, т.е. под здоровьем здесь подразумевается способность вести нездоровый образ жизни, находится в экстремальной ситуации, в зоне риска.
Мы подошли к главной черте концепта человека в народной культуре – как выглядит человек определено его нахождением в ситуации риска. Концепт человека в народной культуре направлен на ментально-этическое пробуждение в человеке индивидуального витального и личностного начала, на пробуждение нрава. Нрав – это существование в зоне риска, основная доминанта сознания человека в народной культуре. Эта культура потому так озабочена витальностью, что должна гарантировать выживание при мотивациях нравом. Витальность и нрав – два связанных между собой полюса народной культуры. Оппозиция витальности и нрава в крайнем выражении доходит до риска жизнью. Тогда сама жизнь становится маргинальной и средством чего-то иного. Жизнь тогда оппозиционно отрывается от жизнеобеспечения. Ради чего жизнь устремляется в зону риска? Ради личностного аристократического начала в человеке, ради его достоинства.
В народной культуре жизнь выведена из сферы сакрального и положена платой за само существование. Подобное пребывание в зоне риска является центральной частью обряда возрастной инициации.
Теперь об отмеченной установке на ночное время. Ночь – время, когда человек обретает целостность. Целостный человек делается объектом императивов культуры. Пусть они будут архетипами культуры или архетипами человека, это одно и то же. «Человек не должен ночевать под открытым небом», – сказали мне однажды на ночной дороге, взяли в автомобиль и привезли в дом. Эти слова были сказаны мне в ответ на мой вопрос: «Столько машин прошло мимо, почему Вы все-таки остановились?» В прозвучавших словах ответа предстал архетип жилища – не та или иная его конструкция, а сама императивная необходимость быть хранилищем для человека, который там спасает свою целостность и достоинство. В повседневности архетип жилища выражен обрядом, приуроченным к ночному времени. Так, у коми переселение в новый дом происходит ночью и в полнолуние[57]. Архетип пищи вербализовался при моем отказе ужинать словами: «Человек не должен ложиться спать голодным».
Отметим основные моменты архетипических ситуаций: 1. Архетипы оказались озвучены как исправление недопонимания ради изменения ситуации, когда полнота бытия находилась под угрозой; 2. Примечательно, что формулировки были высказаны в адрес странника и гостя; 3. Словесные формулировки предваряли ближайшую реализацию архетипа, высказывая императивы, не просто ночные, но вечные.
Это виртуальное прошлое-будущее, где расположено самое значимое Слово, которое задано и будет задавать основы человеческого поведения и общежития. Ингушская пословица гласит: «Хочешь шагнуть, посмотри вперед; хочешь сказать, посмотри назад».
Вообще же ночь (поскольку изначальное Слово было сказано) – время молчания и архетипического действия: в доме человек находится ночью, застолье для гостя должно быть ночным. Первый тост – за гостя, он облекается изначальным Словом. Витальная радость должна быть молчалива, поэтому свадьба должна быть шумной. В ней шум – магическая оболочка хранимого. По кавказским поверьям зачинать детей положено часа в 4 утра. Это время восхода Венеры. Видно, и древние, так назвавшие утреннюю звезду, знали, что человек зарождается аналогично выходу света из хранилища-тьмы. Слово – универсальное хранилище человека.
7. Дополнительность как инвестирование
Как-то в начале 1980-х годов я шел по селу Блабурхва в Абхазии. Вдруг из калитки своего двора вышел хозяин, до того мне не знакомый, и протянул одну руку, перегораживая мне путь, а другой он указывал во двор. При этом он сказал: «Зайди, чтобы я человеком был». Далее развернулся традиционный сценарий гостевания, к которому, несмотря на повторения, невозможно привыкнуть. Ведь тебя, гостя, принимают как посланника Божьего, выкладывая на стол все лучшее. Ритуально не они, хозяева, а гость приносит это благо. Отвлечение от будней позволяет людям проявить лучшее в них. Слова моего хозяина выразили тоску по другому человеку, по человечности, которая вне нас. И поэтому человек трагически неочевиден. Его присутствие в мире отложено до прихода гостя и трапезы-жертвоприношения.
А если нет гостя, человек сам себя приносит в жертву своим трудом, буднями, которые тоже оказываются святы, и нет такого разделения профанного и сакрального, на чем настаивал М. Элиаде. Заурядная повседневность не структурирована мифом, она избыточна и витальна. Избыточность дает возможность вести бесконечные инверсии, замещения, создавать игровые синтагмы и смысловые эмблемы. В избыточных синтагмах нашей жизни ищем мы риск и случайность. Даже нуждающийся человек архаики уставал от долгого пребывания в одном ландшафте, хотя в нем и были истощены ресурсы пищи. Вот рассказ австралийских аборигенов: «Муж говорит жене: “Давай уйдем”. Она говорит: “Давай”. Они уходят». Означающего всегда должно быть больше, чем означаемого. Эти австралийские Адам и Ева в уходе, в этом своем отсутствии, как и в своей наготе, реализуют человечность в поиске риска и свободы. Пойманная ими дичь будет жертвоприношением – расчленением с образованием избыточной множественности, т.е. порождением быта, а не сакрального образца. Человек первобытности витален и нравен. Этим – прагматикой вожделений – он задан в мире. Поэтому он легко утомляется.
Если говорить языком древнеегипетской мысли, то в первобытности Слово уже прозвучало: Ра через бога Тота, представляющего его разум и язык, бога Слова, уже появились материальные вещи. Но человек первобытности еще не произнес ответного слова. Он, как Адам после грехопадения, прячется в ответ на призыв: «Адам, где ты?» Он еще не ответил, как Авраам: «Вот Я!» (буквально «Узри меня!») Человек первобытности еще невидим: он, скорее, внутреннее тело, чем внешнее. Притом он, скорее, деятель, чем наблюдатель: множество названий снега у эскимосов или пород верблюдов у бедуинов – результат деятельности, а не бескорыстного познания. Смыслополагание первобытного человека устроено по принципу дополнительности, синтагматично, а не понятийно. Эмблематика – сущность такого мышления. Тело первобытного человека разъято. Каждый орган эмблема. А в целом этот человек плохо состыкован. И часто отдельные органы слабо подчиняются своему хозяину. У австралийского героя член может отделиться и незаметно подползти к женщине. У индейцев виннебаго то же самое на другом берегу озера совершает пенис героя-трикстера Вакчжункаги. Даже на краснофигурных античных вазах человеческие тела еще показаны как бы состоящими из отдельных частей, на что обратил внимание П. Фейерабенд[58]. Таковы и герои Гомера, у которого речь идет об отдельных органах тела, даже не о туловище в целом. Сами мы иронически относимся к несообразности Дон Кихота, великолепно переданной в скульптуре Сташевской и подаренной Петру Капице. Печальный рыцарь предстает из разрозненных деталей. Но ведь в нем мы узнаем свои собственные нелепости. Мы еще не всегда умеем ответить на ясный призыв «Вот я!» с осознанием своего образа и подобия.
Зримое, считал Платон, черта очевидного. Человек первобытности неочевиден и этим пользуется. Рассмотрим украинский обряд «Щидрый вичор». После сбора урожая хозяйка печет хлеба из новой муки. Складывает их на столе горкой. Хозяин прячется за хлебами. Зовут детей, которые становятся около дверей. Отец спрашивает: «Видно меня, дети, или нет?» Дети отвечают, что нет. «Чтобы и на следующий год был бы такой урожай!», – заключает хозяин. Аналогичный обряд существовал в Древней Греции, а также известен абхазам. Ритуальная невидимость этого хозяина инвестирует будущий урожай. С другой стороны, у русских и украинцев на весеннем обряде среди посевов клали хлеб и, отступив на несколько шагов, смотрели, виден ли хлеб. Если не виден, то это предвещало хороший урожай[59]. Хлеба названного обряда были уже заданы на заре человеческой истории оббитыми гальками: они «видели» своими сколами, а человек был «невидим» и потому мог рассчитывать на избыточное изобилие золотого века.
Что ж, ситуация с гальками или хлебами хотя и не доказательна, но зато достоверна. Присутствие человека в мире архаики достоверно благодаря хлебам, пойманной дичи, прочим ресурсам витальности. Сам человек для другого тоже знак достоверности. О невесте, приносящей благо, мы уже говорили. Обретение жены тогда выступает знаком присутствия. Недаром есть русская пословица «Женился – стал человеком». То же самое говорят калмыки: «Человеком стал (“кюн болва”)», т.е. женился[60].
У ингушей существует правило, выраженное пословицей: «Девушки встают перед мужчинами, мужчины – перед старухами». Мужчины в этом возрастном ряду занимают позицию женщин в репродуктивном возрасте. Здесь синтагма мужчин с женским началом выполняет роль достоверности мужского присутствия. В Парфеньевском районе Костромской области если хозяйка, идущая доить корову, не спала с мужем, то она предварительно должна между своих грудей полить водой[61]. Вода универсальный источник мужского начала у многих народов (к примеру, у чеченцев и ингушей мужскую сперму называют «водой»).
Архаическая витальность дополнительна и в свою эмблематику может втягивать ресурсы из нечеловеческого мира. Так, первую рубашку на новорожденном называют «медвежьей» (абхазы), «собачьей» (казахи и другие народы тюркской группы), «перьевой» (чеченцы») и т.д.
В виртуальном театре народной культуры люди почитают животных и природные объекты («тотемизм»), ощущают в себе душу («анимизм»), но больше всего верят в чудеса не потому, что они глупы или находятся на низшей стадии развития, а потому, что так интересно жить. Это способ реализации витальности. Конечно, он коллективный по способу трансляции, но виртуально-индивидуален по доставляемому удовольствию.
8. Мать-природа и эмблемы-описания
Человек, представленный витальностью и нравом, находится в неопределенности становления. Он нуждается в более ясных структурах описания. Их ему предоставляет мать-природа. Ее структуры он использует в качестве ментальных концептов своей среды. Возьмем для примера хорошо изученное жилище народов коми. У них вовсе не все деревья пригодны для строительства, могут быть использованы для сооружения сруба, жилья. Нельзя было использовать деревья с наростами, с двумя вершинами, ибо по народным представлениям такое дерево имело две души и могло принести несчастье. Не брали деревья, начавшие сохнуть, чтобы не болели и не сохли будущие жильцы дома. Не использовали деревья, у которых древесина завивалось против солнца, так как такое движение против солнца считалось признаком принадлежности к «нечистому» и опасному миру. Положительным знаком была находка дерева-двойника человека, которое, будучи положенным в сруб, давало его хозяину чудодейственную силу. По срубленным бревнам можно было предсказать судьбу обитателей дома. У коми существовали знатоки древесной магии. Они руководили выбором материала для строительства[62]. Не менее разработана древесная магия у народов Кавказа. Так, у абхазов хвойные деревья считаются гордыми и мешающими жизни человека. Их не сажают около жилищ. Зато ольха, имеющая мягкую древесину, не вредит жизни человека, изделия из нее не переживают срока человеческой жизни. Поэтому из нее делают кровати и стулья. На таких кроватях человек хорошо высыпается. Ольха обладает еще свойством снимать опьянение. Почитается у абхазов граб, он называется «ахаца», что звучит похоже на мифическую фамилию первой женщины Хеция[63].
Мифический Аттис, оскопивший себя, и почитательницы Диониса, бога с размытой половой идентичностью, менады, которые укрывались от мужчин в горах, – все это разные способы снятия полового вожделения путем маркировки духовного экстаза природными объектами – деревом и горой. И хтоническое дерево, указывающее на преисподнюю (хвойное), и вершина горы, пребывающая в мире горнем, – это так называемая «мировая ось». Аттис и менады своими эмблематиками не только переносятся в сакральную реальность, но странным образом реализуют в себе универсально человеческое начало. В Чечне мать суфийского праведника Кунта-Хаджи, учение которого повлияло на молодого Льва Толстого, похоронена на горе Эртан-корта. И сегодня почитатели ее могилы уносят с собой как святыню веточку с растущих поблизости хвойных деревьев[64]. Получается, что хвойные породы, ассоциированные с миром смерти, маркируют духовные состояния человека.
Такую маркировку правильнее называть не символом – ведь никакого древесного качества в этих примерах человеку не передается, а назвать следует эмблематикой, значение которой состоит в указательной функции. Народная культура, скорее, эмблематична, чем символична. В ней широко используются объекты природы для описания состояний человека. Объясняющая система природы охватывает объясняемое – человека.
Женщина в концепте человека в народной культуре привносит природное начало. Прежде всего, в силу того, что она концентрирует в себе генеративно-становящийся принцип. Приведенный пример с жилищем показывает не только то, что в народной культуре концепт ценностно окрашен. Жилище, как и другие концепты, несет в себе ресурсы витальности. Оно наполнено смыслами жизни. Жилище и очаг повсюду ассоциированы с женским началом. У чеченцев во вновь построенный дом первой должна входить хозяйка, и затем она приглашает войти мужа.
«Природнее» ли от этого человек народной культуры, чем человек техногенного общества? Старое воззрение, что «дикарь» природнее цивилизованного человека нет-нет да дает о себе знать в научной литературе. Но, как мы хотели здесь показать, дело только в том, что человек народной культуры маркирует свои преходящие состояния, а цивилизованный человек маркирует свою сделанность, завершенность, что обыкновенно именуют личностью. Тогда как у человека народной культуры личность всегда в становлении, в процессе. У мужчины рождается ребенок – его называют «отцом такого-то», приходит в дом невестка – она всем членам новой семьи дает свои имена и т.д. Имена-эмблемы легко сменяются, порождаются. Поэтому можно сказать, что человек народной культуры живет в зоне риска. А риск, как известно, благородное дело.
9. Компетентность человека и традиция
В том стремительном развитии, которое переживает мир, художественное творчество играет важную, если не ведущую, роль. Охватившее нас состояние называют эпохой глобалистики. Как бы ни относиться к ее пониманию, ясно, что она сопряжена с использованием управленческих и проективных способов построения реальности. Но если эти способы так очевидны в отношении технологических процессов, то не все ясно с художественным творчеством. Подходит ли для него тот язык описания, который принят для описания других форм творческой субъектности? В данном случае интересуют взаимосвязанные категории компетенции и компетентности.
Дело в том, что в русском языке оказалось удачно разведены фонетические структуры слов «компетенция» и «компетентность», что не всегда удается сделать западноевропейским языкам. Хотя сами явления, обозначенные единым словом, активно обсуждаются даже на уровне документов Совета Европы, прежде всего в документах, относящихся к образованию, а также к описанию отношений работодателя и нанимающегося исполнителя.
Итак, для дальнейшего хода рассуждений существенно следующее семантическое различение. Компетенцией будем обозначать характеристику рабочего места. Компетентностью – характеристику работника и всякого другого носителя знания: быть компетентным значит быть готовым к действию, знать, когда и как действовать. В книге известного английского психолога Джона Равена «Компетентность в современном обществе», посвященной ролям, установкам и мотивациям разных слоев современного общества, приводится понимание компетентности как единства когнитивного, эмоционального и волевого аспектов деятельности, направленной на реализацию ценностных установок субъекта[65].
Это четкое определение стало всевозможными способами модифицироваться и дополняться. В некоторых из них под компетентностью стала пониматься способность, освобожденная от предметного и психологического контекста, в котором она возникла. Здесь за скобки выносится предметный и психологический контекст, что сразу делает категорию абстрактной, размещенной, скорее, где-то вне человека, чем в нем самом. В этом случае теряются эвристичность понятия и его развивающаяся, накопительная сила.
В отличие от компетенции компетентность – качество, требующее приращения знания, всегда возрастающее, капитализирующееся. На материале художественной культуры это хорошо ощутил Пьер Бурдьё. Он констатирует, что художественная компетентность – средство для приобретения художественного капитала. В книге о различии он подчеркивает, что компетентность зависит и от способов ее приобретения, и от манеры пользования символическим товаром, что он кладет в основу различения высокого и низкого вкуса[66]. В рассуждениях Бурдьё речь идет, таким образом, о контексте, представленном стилистической средой реализации ресурса компетентности.
И тут как нам не вспомнить венского музейного специалиста по тканям Алоизе Ригле, который смог на таком скромном материале основать учение о стилях. Его успех был обеспечен этнографическим подходом к древнеримским реалиям. Следуя хорошему примеру, почему бы и нам не прибегнуть к кое-каким этнографическим сюжетам.
Сюжет 1. В мое первое посещение Палеха в 1960-е годы пожилые мастера еще так поясняли свою компетентность: «Мы пишем по-своему, но можем и по-фряжски (т. е. по-европейски)». Один из них по просьбе моей спутницы тут же взялся писать на заготовке интересующий ее мотив. Что примечательно в этом эпизоде? То, за пояснениями художника стояла локальная традиция палехских иконописцев, хранителей того самого символического капитала высочайшей пробы.
Для носителей данной традиции Палех – это не просто географический локус, а функциональное место, где слиты ландшафт и время в виде традиции. Поэтому на данном примере можно установить, что традиция не только сводится к передаче знаний и навыков, но и вписана в жизнедеятельность коллектива, составляющего корпорацию.
Функциональное место хранит тайну компетенции. Поэтому нельзя стыдливому человеку сказать «Это моя компетенция» или «Я в том-то компетентен». Принято внутреннюю импликативность выражать экспликативно, внешне, через действие: «Я могу то-то сделать». Компетентность не афишируется.
Такая этическая сторона дела должна учитываться органами, имеющими право на легитимизацию художественной деятельности независимо от того, государственные они или общественные. Речь идет о признании компетентности в виде дипломов, призов и других знаков отличия.
Сюжет 2. Если взять другой пример из русской национальной культуры, какой она выкристаллизовалась крестьянством в ХIХ веке, то там можно найти структуры, актуальные для современности. Вот пример, связанный со строительством дома. Положено было нанимать специалиста-плотника. Но плотник не брался за столярные работы, это делал другой человек, так же, как утеплял избу специалист-конопатчик. Кровлю устраивали другие нанятые люди. Под Москвой это делали приезжие из южных областей, сообща именовавшиеся «хохлами». Вообще, русскую деревню посещала масса пришлого народу, среди которого было много профессионалов. Здесь и торговцы разных уровней, скупщики местной продукции (зерна, кож, пакли, ручного тканья и т. п.), лекари, коновалы, сергачи-межвежатники…
Так что, получается, что сам землепашец находился вне разделения труда? Вот именно. Крестьянин, готовый к разностороннему труду, сохраняет свою социально целостную субъектность, которая уравновешивается целостностью природы. Последняя вся оказывается его функциональным местом, или, как мы условились говорить, его компетенцией. Парадоксально, что все это при сниженной компетентности, делегированной перечисленным специалистам. Но происходит чудо: в крестьянской жизнедеятельности функциональное место со всеми условиями труда и ландшафтом интериоризируется, становясь мотивациями и внутренней психической жизнью. Происходит синергийное единение человека и природы с фольклорным очеловечением последней.
Но разве поэтизация природы и творения рук специфика только одного крестьянства? Вовсе нет. Шумерский царь Гильгамеш жил в III тыс. до н. э. Судя по поэме о нем, он был страстным человеком и призывал людей любоваться кирпичами, из которых были сложены стены его родного города Урука.
Реконструированная модель интериоризованной крестьянской компетентности требуется для сопоставления с научными представлениями о художественной жизни. Для убедительности не будем выходить за пределы обозначенного ХIХ века. И тут мы обнаруживаем напряженное внимание философов и искусствоведов к вещам и к природе. С полной мощью это обозначено у Фридриха Ницше. То же самое у Джона Рескина: природа лежит в основании искусства. Это мы отмечаем во взглядах и творчестве Обри Винсента Бердсли. Подобный взгляд на природу уже не романтизм, а позитивная теория, ибо Оскар Уайльд также утверждает, что нет сущности вне вещей. В отечественной научной традиции об этой истине как о житейских формах с их увязкой на природу и об их порыве к эстетике говорил Константин Леонтьев.
Остается сказать немногое. Художественное воображение может быть отрефлексированным и нет. Оно может предстать и вовсе некомпетентным, как, например, в творчестве людей с отклонениями психики. Но локус компетентности можно всегда обнаружить и можно попытаться в него войти, чтобы понять художника, как это делает, например, К. Г. Богемская. В подобных случаях проявляется эффект резонанса или, как однажды сформулировал проблему Ю. В. Кнорозов, эффект фасцинации.
Что касается антропологического воображения, то о нем сейчас иногда говорят в связи с попытками дать образ совершенного человека. Художественное воображение если не гарантирует это совершенство, то ему способствует. А в том, что эстетическая реальность порождается в лоне аристократического и творческого соприкосновения человека с природой, можно не сомневаться.
[4] Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. С. 40. [5] Barthes R. Essais critiques. P., 1964. P. 41–42. Цит. по: Пави П. Словарь театра. М., 1991. С. 365. [7] Аббаньяно Н. Структура экзистенции. Введение в экзистенциализм. Позитивный экзистенциализм и другие работы. СПб., 1998. [14] Бейтсон Г. Экология разума. Избранные статьи по антропологии, [20] Здесь и ниже дана терминология русского обычного права, зафиксированная мною полевым этнографическим методом или взятая из трудов юристов, изучавших обычное право крестьян после реформ 1861 г. [21] Мои полевые этнографические материалы, собранные в центральных областях России, на Кавказе и в Сибири. [23] Библейский богословский словарь. Под ред. свящ. В. Михайловского. Изд-во Свято-Владимирского. братства. 1995. С. 335–338. [30] Мамардашвили М. К. Стрела познания. Набросок естественно научной гносеологии. М., 1996. С. 285–284. [35] Подробнее // Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. «Языки русской культуры». М., 1997. С. 40–75. [36] Другое их название карагасы. Небольшой (600 чел.) тюркский по языку, но некогда говоривший на финно-угорском народ. Разводят верховых оленей, которых используют при охоте. Шаманисты. Николай Баканаев был участником Великой Отечественной войны. [38] Петров М.К. Историко-культурные основания развития науки как профессии. Человеческая размерность и мир предметной деятельности // http://courier-edu.ru/pril/posobie/cheloraz.htm (Социокультурные основания развития современной науки, 1992.) [39] Мамардашвили М. К. Стрела познания. Набросок естественноисторической гносеологии. М.: Языки русской культуры, 1996. [40] См.: Экспертиза в современном мире. От знания к деятельности. Под ред. Г.В. Иванченко, Д.А. Леонтьева. М.: Смысл, 2006. [50] Чеснов Я.В. От коммуникации к культуре, или Зачем сэру Эдмунду Личу нужно понять другого человека. В кн.: Лич Э. Культура и коммуникация. Логика взаимосвязи символов. М., 2001. С. 125–141. [52] Иванов Вяч. Вс. Опыт истолкования древнеиндийских ритуальных и мифологических терминов, образованных от asva – «конь», в кн.: Проблемы истории языков народов Индии. М., 1974. С. 75–138. [56] Агапкина Т.А. Мифопоэтические основы славянского народного календаря. Весенне-летний цикл. М., 2002. С. 763. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
    |
|
 назад
назад