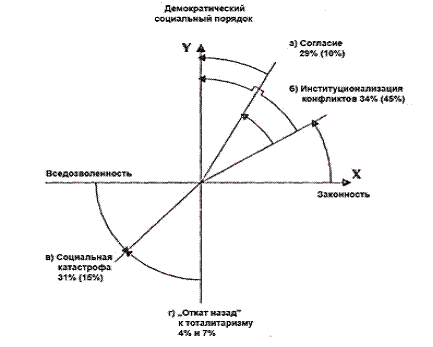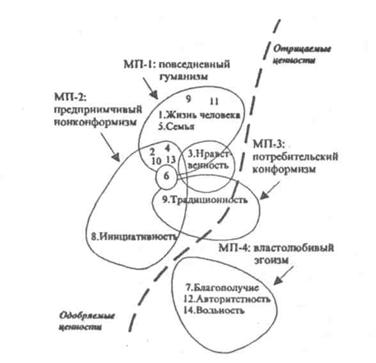Российская Академия Наук Институт философии
КРИЗИСНЫЙ СОЦИУМ. НАШЕ ОБЩЕСТВО В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ
Москва 1994
ВВЕДЕНИЕ. КРИЗИСНЫЙ СОЦИУМ И МНОГОМЕРНОСТЬ ИСТОРИИ
Вновь тяжкие годы выпали на долю России. Но если прежде внутренние смуты сопряжены были с внешними военными нашествиями, то ныне нет видимых силовых влияний извне, что, конечно, не исключает влияний политических, экономических и культурных. Российский исторический процесс натолкнулся на некий внутренний барьер, ставший пределом его движения в прежнем направлении. Перед этим пределом поднялась своего рода историческая волна, со спадом которой обрушивается прежний порядок и пока не ясны очертания нового. «Рухнула империя», – говорят одни со страхом и горечью, другие с радостью и надеждой, третьи в растерянности. Да, более тысячи лет история России была историей колонизации, обживания и собирания обширных территорий славянами, преимущественно русскими. Последние, впрочем, не вытесняли и не уничтожали прежнее население этих территорий, как нередко происходило в мировой истории, а взаимодействовали с ним, образуя многоэтнический симбиоз, из которого росла своеобразная цивилизация, связующая Запад с Востоком. В.О.Ключевский в Курсе русской истории выделил четыре периода такой колонизации, обозначив их по территориям, в которых сосредоточивалась в разные времена главная масса русского народонаселения: 1) Русь Днепровская, городовая, торговая (с VIII до XIII в.); 2) Русь Верхневолжская, удельно-княжеская, вольно-земледельческая (с XIII до середины XV в.); 3) Русь Великая (включая Донскую и Средневолжскую), Московская, царско-боярская, военно-земледельческая – период великорусский (с половины XV до начала XVII в.); период всероссийский (вся Восточно-европейская равнина и далеко от нее на юг и восток – за Кавказ, Каспий и Урал, до Тихого океана), императорско-дворянский, крепостного хозяйства, земледельческого и фабрично-заводского (с начала XVII до половины XIX в.).
За такую периодизацию упрекали В.О.Ключевского в эклектизме, но вернее было бы адресовать этот упрек самой истории России. А ее историк, по сути дела, оставил место для еще одного, пятого по счету, но не названного им по содержанию периода: с половины XIX до...(?). К пониманию смысла этого периода историк шел от факта ненормального соотношения между величием достигнутого Россией международного положения и слабым внутренним ее ростом, низким уровнем духовных и материальных средств, которыми обладал ее народ. Из этого несоответствия следовало, что русскому и другим народам России предстоит теперь «напряженно работать над самим собой, развивать свои умственные и нравственные силы, с особенной заботливостью устанавливать свои общественные отношения» (В.О.Ключевский, 1987). Сегодня мы бы добавили – предстоит сформировать гражданское общество. Движение в этом направлении началось с отмены в 1861 г. крепостного права и провозглашения в 1884 г. земской реформы. Трудно, преодолевая сопротивление реакционных помещиков и чиновников, возникало общество свободных граждан, несущих равные по закону государственные и общественные повинности. Пошел в рост отечественный и иностранный капитал – торговый, промышленный, финансовый. В полный голос стали говорить российские судьи и адвокаты, цивилизованное правосознание запало в душу народа. Набирала практический опыт и влияние в общественном сознании экономическая и социальная наука, общечеловеческую соборность обосновывала русская философия. Блистательных высот достигли русская литература и искусство. Так длилось полвека. Начало XX в. открыло новый этап в борьбе империй за передел мира. Российский император Николай II и его правительство оказались не на высоте основного требования того периода российской истории: отказываясь от внешней агрессии, сосредоточить внимание на прогрессе внутренней жизни страны. Вместо этого Россия втянулась в войну с Японией и проиграла ее. Затем наступила первая мировая война, в ходе которой рухнула сама династия Романовых. Неокрепшие внутренние силы страны стали предпосылкой внешних ее поражений. А эти поражения, наложившись на внутренние слабости, сделали Россию самым уязвимым звеном в исторической эволюции западной цивилизации, которая и прервалась на этом огромном социокультурном пространстве в октябре 1917 г.
Приход к власти большевиков означал разрыв с основными традициями России и впервые после татаро-монгольского нашествия поставил ее перед крахом. Если война с Японией положила предел процессу российской колонизации на востоке, то война с Германией продолжила тот же процесс с другого конца – деколонизацию части российских территорий, идущей с запада. Октябрьская революция сделала этот процесс историческим фактом: сначала от России отпали Финляндия, Польша и прибалтийские территории, а затем, в ходе гражданской войны, стало распадаться обширное всероссийское пространство (отделялись азиатские и кавказские территории, даже исторически более укорененные пространства России – Украина, Сибирь, Дальний Восток). Возник исторический прецедент сужения границ России до Великороссии и даже Верхневолжской Руси. Ценой невероятного истощения внутренних сил народа советская власть в итоге гражданской войны почти полностью восстановила былое всероссийское пространство. Этот процесс получил продолжение перед второй мировой войной и по ее итогам: в состав СССР были включены западные части Украины и Белоруссии, балтийские республики, южная часть Сахалина и северные Курильские острова. После войны Советский Союз стал одной из двух сверхдержав мира. Однако, подспудно нарастали кризисные процессы. В 70-х годах они приняли форму «застоя», а к середине 80-х годов стал очевиден всеобщий кризис великой державы. В 1991 г. кризис завершился социально-политической катастрофой мирового значения: СССР не стало. На его руинах возникли 15 суверенных государств, а Российская Федерация – лишь одно из них. Правда, и в новом качестве она остается самым большим государственным образованием, по периферии которого располагаются остальные 14. Но налицо обвальный процесс деколонизации значительной части всероссийских территорий. Этот процесс проникает и внутрь Великороссии, угрожая дальнейшим ее разложением на «суверенные национальные территории». Ныне Российская Федерация, как историческая преемница России всех периодов ее бытия, обретает новую возможность сосредоточить силы на развитии внутренних способностей русского и других образующих ее народов. Она пытается вырваться из пут прошлого, чтобы обустроить иное будущее. Но у субъектов нынешних общественных изменений нет четкого понимания сути ее недавнего прошлого и настоящего.
Дело не просто в субъективных качествах нынешних российских лидеров. Ситуация, в которой оказалось наше общество, во многом сродни той ситуации, которую во второй половине XIX в. пережили многие страны Запада и начала переживать послереформенная Россия. Эмиль Дюркгейм обозначил ее как смену механической солидарности, характеризовавшей общества сегментарного типа, где индивид поглощен группой, часть – целым, органической солидарностью обществ, основанных на разделении труда, где индивиды самостоятельны и группируются в соответствии со спецификой своей деятельности. В «Заключении» книги «О разделении общественного труда», вышедшей в свет 100 лет назад (в 1893 г.), Дюркгейм так резюмировал эту ситуацию: «За небольшой промежуток времени в структуре наших обществ произошли глубокие изменения; они освободились от сегментарного типа со скоростью и в масштабах, подобных которым нельзя найти в истории. Поэтому нравственность, соответствующая этому типу, испытала регресс, но другая не развилась достаточно быстро, чтобы заполнить пустоту, оставленную прежней нравственностью в наших сознаниях. Наша вера поколеблена; традиция потеряла свою власть; индивидуальное суждение освободилось от коллективного. Но, с другой стороны, у функций, разъединившихся в ходе переворота, еще не было времени для взаимного приспособления, новая жизнь, как бы сразу вырвавшаяся наружу, еще не смогла полностью организоваться, причем организоваться прежде всего так, чтобы удовлетворить потребность в справедливости, овладевшую нашими сердцами»[1]. В современной России общественный переворот, в ходе которого утверждается новое положение индивида по отношению к государству и другим институтам, совершается еще быстрее. Поэтому у функций, разъединившихся в ходе этого переворота, совсем не было времени для их взаимного приспособления. Наше время предстает, по преимуществу, как время вопросов, большинство из которых остается без ответов. Тем нужнее поиск этих ответов, чему и посвящена данная книга. Многие согласны, что наше общество – переходного типа. Но от чего, к чему и как осуществляется переход? Размышляя об этом, мы с удивлением обнаруживаем, что наша жизнь бедна ясными, понятными каждому и разделяемыми большинством ориентирами.
Зато она изобилует такими социальными связями, которые в XIX в. Карл Маркс называл «превращенными формами», а Мераб Мамардашвили совсем недавно расшифровал их как особого рода детерминизмы – «превращенности действия». Дело в том, что на определенных уровнях сложной социальной системы ее внутренние отношения так превращаются, что их подлинное содержание оказывается скрыто от наблюдателя. За три четверти века в советском обществе возникло столько социальных превращений, что оно оказалось трудно проницаемым для наблюдения как извне, так и изнутри. Сложилась тотально превращенная, замкнутая в себе реальность, своего рода социальный черный ящик. Вот почему это общество получило разноречивые оценки, а задача «просветления» этого черного ящика остается весьма актуальной. Исходным при решении данной задачи является факт всеобъемлющего кризиса советского, а ныне и нашего российского общества. Исследование глубинных оснований кризиса привело к обнаружению факта тотального отчуждения, сама возможность которого после ликвидации частной собственности на средства производства исключалась доминирующей марксистской теорией и идеологией. Именно на основе отчуждения человека стало неизбежным самоотчуждение общества от развития, обусловившее всеобщий его кризис. В конце 80-х годов он рос лавинообразно, так что к 1991 г. не осталось ни одной сферы общественной жизни, в которой не наблюдалось бы его разрушительное действие. Но дело не только в масштабах кризиса, а в его характере. Различные попытки разрешить кризис или выйти из него обнаружили высокую его устойчивость, наличие скрытого внутри него механизма самовосстановления и самовоспроизводства. На каждое действие по его преодолению возникало нейтрализующее противодействие, создававшее очередную тупиковую ситуацию. Переживаемый нашим обществом кризис как бы заключает в себе порок заколдованного круга. По отношению к нормальному саморазвитию большинства общественных кризисов он выступает как патологический. Основания такого кризиса лежат весьма глубоко под превращенными формами общественных связей. Они заключаются и в характере социальных отношений, и в специфике культуры, и в своеобразии взаимодействия социальных отношений и культуры. Как показывают содержащиеся в книге результаты исследований, наше общество оказалось в состоянии патологического социокультурного кризиса.
Это и есть кризисный социум. Он служит формой для разложения определенного типа социальных отношений, достигшего завершающей стадии своего развития. Одновременно это и первоначальная, еще не адекватная форма возникновения качественно иной социальной системы. Патологичность кризиса вовсе не означает безысходности происходящих в обществе процессов, однозначной заданности его настоящего и будущего. Социальный мир, как и природный, многомерен. Специфическую предпосылку его многомерности составляет природа человека – универсально многомерного существа, воплощающего в себе противоречивое единство биологического, культурного и социального. Благодаря этому человек становится мерой всех вещей и в своей универсальности выступает как высшая цель и смысл истории. В то же время человек – внутренне противоречивое существо, в котором постоянно противоборствуют различные начала (например, рациональное и иррациональное). Глубоко противоречиво и его положение в обществе: стремление каждого индивида к независимости (свободе) наталкивается на противоположную тенденцию усиления взаимной зависимости, отчуждения множеств индивидов. Личная зависимость или независимость индивидов – исторически исходный и одновременно высший, гуманистический критерий типологии различных форм общества. А движение от отчуждения к свободе человека – один из главных ориентиров исторических процессов. Ныне мы стремимся преодолеть одномерность в самих себе и в нашем обществе, но первые же шаги в этом направлении вызвали растерянность в связи с обнаружившейся неясностью местоположения российского общества в современном историческом пространстве. Предстоит определить это место, уяснить реальную сложность нашего состояния и движения в контексте человеческой цивилизации, не впадая при этом в панику из-за постигающих нас разочарований. Решению этих задач препятствует укоренившееся в советском обществе сведение сущности человека к социально-экономическим отношениям, что давно уже позволило оппонентам марксизма бросать обвинения в игнорировании личности. Столь же укоренилось и сведение содержания культуры к функциям духовной надстройки над материальным базисом. Глубинное основание этой двойной редукции составляет догматическое отношение к марксовой теории общественно-исторической формации. Оно препятствует адекватному восприятию результатов социально-философских
исследований, полученных в XX столетии в области культуры и философской антропологии. Эти результаты побуждают полнее представить основания исторического процесса, в равной мере учитывать не только социально-экономическое, но и иные основания измерения истории. Что считать такими основаниями? Речь идет об атрибутивных качествах человеческого мира, его истории: подобно тому, как размерность природного мира определяется через характеристики пространства и времени, выступающих в качестве форм и способов его бытия, так и размерность человеческого мира следует определять через характеристики соответствующих форм и способов бытия индивидов, социальных групп, обществ, всего человечества. На наш взгляд, можно выделить три специфические формы (способа) человеческого бытия: положение индивида в обществе как целостной системе – свободное или же зависимое, отчужденное его положение; качество деятельности человека, характер культуры как совокупности способов и результатов деятельности – репродуктивная, рутинная или же продуктивная, инновационная деятельность (соответственно – традиционная или же модернистская культура); тип социальности, социально-экономических отношений между людьми в процессах их трудовой деятельности – известная пятичленка от первобытно-общинных до социалистических отношений. В совокупности они образуют трехмерное человеческое пространство. Кроме того, очевидны два социоприродных измерения бытия человека: социоэкологическое пространство или социально нагруженное пространство природы как среда жизнедеятельности, предпосылка, результат и граница развития человека и всего человечества; социальное время, т.е. продолжительность и специфические ритмы индивидуальной и коллективной жизни людей, соотнесенные с природными и космическими ритмами и пронизывающие все формы социального пространства. Эти пять измерений истории в совокупности и каждое из них в отдельности охватывают материальные и духовные компоненты соответствующих форм и способов бытия индивидов и человеческих общностей. Внутри каждой из форм человеческого бытия прослеживается детерминация, направленная от материальных компонентов к духовным, а также обратное воздействие последних на первые. Что касается связей между самими формами бытия, то они имеют иной характер: это связи взаимодействия, а не однонаправленной детерминации. Ни одно из выделенных измерений истории
не выводится из какого-либо другого и не сводится к нему; в противном случае выделение его в качестве самостоятельного было бы необоснованным. Введение нескольких измерений, взаимосвязанных в целостную систему, позволяет выявить новые грани материалистического монизма в истории. Прежде всего – имманентную его историчность. Ведь исторична сама взаимосвязь форм (измерений) человеческого бытия: удельный вес, место и функция каждой из них в их совокупности меняются от одного исторического этапа к другому. На одном этапе в жизни народа, всего человечества могут выступать в качестве наиболее влиятельных одни формы бытия (например, социально-экономическое измерение истории), а на другом – иные (например, деятельностно-культурное измерение). Многомерный подход позволяет преодолеть линейно-формационное изображение истории, вернуть ей реалистическое многоцветье. Правда, становится труднее обнаружить закономерную повторяемость в истории. Но это нормальное затруднение в процессе познания. Человека волнует не только прошлое и настоящее. Всех нас мучает вопрос: «Что дальше?» Беда российской общественной мысли, до сих пор непреодоленная, состоит в склонности к утопическим представлениям о будущем. Попустительствуя этому, наши государственные чиновники с гораздо большей готовностью предоставляют средства на конструирование очередных прогнозов, нежели на исследование реальных тенденций жизни общества. Хотя именно уяснение этих тенденций и позволяет прикоснуться к будущему, не отдаляясь от действительности. Есть два способа изучения таких тенденций. Один из них состоит в том, чтобы понять, к чему сегодня стремятся реальные субъекты социальных действий, каковы их ценностные ориентации. Другой способ – выявление внутренней логики социальных процессов, влияющих на действия субъектов, диагноз возможных позитивных и негативных их последствий для широких слоев населения. Сочетание результатов, полученных двумя способами, дает максимум реалистичной информации для суждений о ближайшем будущем. В соответствии со всем сказанным выше, в трех разделах данной книги обсуждаются три основные группы вопросов: 1. Где мы находимся? Иными словами, каково место нашего общества в многомерном пространстве, на его путях и перепутьях.
2. Что с нами происходит? Речь идет о больных проблемах современного этапа нашей жизни, характеризуемого как патологический социокультурный кризис. 3. К чему мы движемся? Здесь рассматриваются проблемы становления новых социальных субъектов. Конечно, каждая из этих групп вопросов заслуживает специальной книги, и не одной. Авторы не претендуют на полноту их разработки, а лишь стремятся к взаимосвязанной их постановке. По сути дела, речь идет о трех измерениях нашего общества – глобальном, страновом, субъектном, – жизненно значимых для каждого человека в трех его ипостасях: как члена мирового сообщества, гражданина своей страны, духовно и предметно активной личности. Надеемся, такая постановка проблем будет интересна нашим читателям, найдет отклик в их умах и сердцах.
* * * Книгу написали следующие авторы: введение, главы 4 и 5 (кроме параграфа 5.2), заключение – член-корреспондент РАН Н.И.Лапин; главу 1 – кандидаты философских наук В.И.Антонюк, А.А.Игнатьев, В.Г.Погорецкий; главу 2 – кандидат философских наук Э.М.Коржева; главу 3 – кандидат философских наук С.Я.Матвеева; параграф 5.2 – кандидат социологических наук В.Ю.Копылова; главу 6 – кандидат философских наук В.Г.Бабаков; главу 7 – доктор философских наук А.И.Пригожин; главу 8 – кандидат философских наук В.В.Колбановский; главу 9 – кандидат философских наук Л.А.Беляева. Замысел книги принадлежит Н.И.Лапину, который и осуществил ее составление. Общее редактирование книги выполнили Л.А.Беляева и Н.А.Лапин. Авторы и редакторы благодарят рецензентов – докторов философских наук А.Г.Здравомыслова и В.Г.Федотову – за ценные замечания, которые помогли усовершенствовать ряд глав и книгу в целом. Мы признательны младшему научному сотруднику Института философии РАН И.Е.Ахваткиной за выполненную ею научно-вспомогательную работу по подготовке книги. Издание книги осуществлено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, осуществляемой в рамках проекта «Динамика ценностей населения реформируемой России».
РАЗДЕЛ I. ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ? НА ПУТЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ
Глава 1. Цивилизационный контекст: от традиционного к современному обществу
Люди не могут существовать без психологических, социальных, экономических связей, без объединения в социокультурные общности. Но формы общности меняются, а масштабы их возрастают. Человечество – постоянно становящаяся общность, которая переходит от состояния «суммарного» единства, географической разобщенности, слабых торговых связей, основанных на различии природных условий, к общности более сложной, с более сильными и прочными связями. В наше время человечество является общностью нового типа: существует мировая экономика, основанная на мировом разделении труда, новых интеграционных связях; научно-техническая революция стала в той или иной мере достоянием всех стран; складываются политические союзы и политические организации мирового значения (например, ООН); современные средства транспорта и связи создали информационное единство мира и сделали различные части мира досягаемыми для значительной части его населения. Симптомом становления человечества как современной глобальной общности стали и глобальные проблемы, названные так потому, что свойственны практически всем странам мира и могут быть решены лишь совместными усилиями всего человечества.
1.1. Цивилизационный подход Исследование процессов и механизмов, связывающих отдельные общества в сложно организованную глобальную систему, является одним из наиболее актуальных направлений современной социальной мысли. Предпосылки этого направления формировались давно, но лишь за последние два-три десятилетия они трансформировались в исследовательский подход, оказавшийся весьма продуктивным при изучении самых различных феноменов: от тенденций экономического развития, характерных для так называемых «периферийных» обществ, до разнообразных линейных и циклических структур, определяющих развитие глобальной системы как целого. Этот подход может быть охарактеризован как цивилизационный. Он концентрирует внимание на переходе обществ из традиционной цивилизации в современную. Под современной цивилизацией понимается глобальная система на нынешнем этапе ее развития, в единстве всех ее сторон и уровней, как социокультурная целостность. Ее специфику можно лучше понять в противопоставлении с цивилизацией другого типа, называемой «традиционным обществом». В 80-х годах XIX в. несколько мыслителей почти одновременно высказали близкие идеи, касающиеся макроформационных типов обществ. К.Маркс высказал эту идею в связи с анализом «азиатского способа производства» и перспектив русской общины, тем самым выделив формы, имеющие устойчивый характер и существующие на протяжении тысячелетий. Ф.Теннис различил в истории два типа социальных связей и форм социальной организации: «общность» («община») и «общество». Э.Дюркгейм дифференцировал «механическую» и «органическую» солидарность в зависимости от состояния общественного разделения труда. Такая близость типологий не случайна. Она объясняется сделанными в то время открытиями в области этнографии, культурной и социальной антропологии, истории первобытных («примитивных») народов. Эти открытия помогли увидеть гигантскую разницу в типах взаимоотношений людей древней и современной истории, что и получило закрепление в терминах «традиционного» и «современного» обществ. Первый тип общества функционирует на основе норм традиции: он воспроизводит прежние свои структуры, отторгает радикальные инновации, дает успех тем индивидам, которые следуют устоявшимся традициям и поддерживают их сохранение. Второй, современный тип общества
функционирует на основе иного, рыночного социального механизма, который обусловливает постоянное изменение способов и результатов деятельности, форм социальной организации, сулит успех тем индивидам, которые проявляют инициативу, становятся субъектами модернизации общества. Рассмотрим различия между этими типами обществ в одном методологическом аспекте: с точки зрения используемых ими механизмов регулирования социального поведения. Главное противопоставление современного и традиционного обществ проходит по линии рынок – традиция, ритуал.
1.2. Рынок как универсальный способ интеграции общества Что касается обществ современного типа, то здесь основным пространством, где индивид или группа людей могут преследовать свои частные интересы, является рынок. Он ориентирует субъекта на выполнение единой для всех функции и тем подчиняет его поведение некоторым императивам. Сегодня у нас понятие рынка связывают лишь с чисто экономическими отношениями. Однако для его виднейшего теоретика Адама Смита рынок является универсальным интегративным механизмом, ориентирующим не только производство и распределение материальных благ, но и любые социальные роли: динамика предложения и спроса, удачи и неудачи в преследовании частных интересов служили эффективной, доступной непосредственному переживанию и рефлексии моделью повседневного поведения. В обществе, функционирование которого определяется подобного рода механизмами, могут с одинаковым успехом практиковаться любые виды деятельности – от чернокнижия до сексуальных услуг, не говоря уже о науке, – лишь бы их субъект, личность или общность, следовали «законам рынка» – чисто стохастическим, стихийно складывающимся моделям дискурса, объединяющим разрозненные частные интересы в целостную систему. Само понятие рынка Адам Смит связывал не столько с формами хозяйственного обмена, сколько с особого рода субъектом – «экономическим человеком». Для такого субъекта динамика предложения и спроса или ее обобщенное выражение в этических, теологических и философских доктринах, представляющих мир как поприще для достижения частных интересов, является универсальным и безусловным императивом повседневного поведения в хозяйстве, политической и духовной сферах жизни, благодаря
которому западное общество вообще возможно. Поэтому его специфические императивы переживаются личностью или общностью в качестве естественных и само собой разумеющихся целей, с которыми заведомо должны быть согласованы любые частные интересы. Иначе обстоит дело в традиционных, или восточных, обществах, где преобладающие структуры дискурса в первую очередь определяет традиция, некий универсальный образ действий, разделяемых личностью или общностью в качестве естественного и само собой разумеющегося пути к достижению каких угодно частных целей. Подобно рынку, традиция является не просто бытовым или хозяйственным институтом, но универсальным интегративным механизмом, организующим любые социальные роли в соответствии с определенными императивами поведения, все равно – идет ли речь о взаимодействии с реальностью, отношениях себе подобными или внутренней рациональности самого субъекта. В обществе, которое интегрировано подобного рода механизмами, любая проблемная ситуация переживается либо как прямое повторение прецедента, с которым ранее уже сталкивались другие носители традиции, либо как заведомо разрешимая при заданных традицией ограничениях на средства и стратегию действий. Если традиция продуктивна, т.е. предполагает достаточно широкие возможности для реализации частных интересов, то наперед заданный ею господствующий образ действий как бы уже воплощает любую возможную рациональность, которая сохраняет значение сакральной ценности даже в тех случаях, когда частные интересы субъекта, вообще говоря, могли бы предполагать инакомыслие. В классическом «восточном» обществе традиция определяет ту единственную и само собой разумеющуюся форму, в которой личность или общность может выразить свои частные интересы, а это делает невозможным (и даже немыслимым) их переживание в качестве рациональной цели, предмета внутренней рефлексии или же внешнего принуждения. Человек традиционного общества вовсе не лишен частных интересов, однако возможности их выражения здесь ограничены всеобщим сакральным порядком, который устанавливает традиция: непосредственно, путем регламентации поведения конкретными предписаниями и запретами, или косвенным образом, устанавливая некие стандартные формы личностной идентичности и объединения с себе подобными (социальные роли, предписанные модели действия или общепринятые когнитивные клише). Можно сказать, что человек традиционного общества, какие бы частные интересы
он ни преследовал, прежде всего занят поддержанием всеобщего сакрального порядка – это определяет и непосредственные цели, и конечный смысл его действий, вследствие чего обусловливает перспективу его повседневного житейского успеха, становится исходной и универсальной предпосылкой для достижения устойчивой личностной идентичности признанного социального статуса. В отличие от этого, человек современного «западного» общества занят совсем другим – непосредственные цели и конечный смысл его действий определяют успех или неудача на рынке, поэтому исходной и универсальной предпосылкой для достижения личностной идентичности или социального признания в данном случае оказывается рациональное действие, направленное на согласование частных интересов с динамикой спроса и предложения. Строго говоря, никаких других императивов поведения в обществе «западного» типа нет, оно не предполагает ни конкретных предписаний и запретов (что создает достаточно устойчивые предпосылки для эрозии норм морали и права), ни каких-либо стандартных форм личностной идентичности и социальной интеграции (которые здесь всегда остаются проблемой), поэтому и многообразие частных интересов здесь ограничено только одним – наличием или отсутствием возможности реализовать свои частные интересы на рынке. В обоих случаях действующие императивы поведения так или иначе обеспечивают перспективу житейского успеха. Однако успех достигается на существенно разных условиях, что влечет за собой и существенные различия в структурах сознания, моделях повседневного или специализированного дискурса. Дискурс традиционного общества прежде всего акцентирует путь, ведущий к цели, т.е. способ действий, его средства, ресурсы или форму, которые здесь даже могут приобретать характер сакральной ценности; отсюда многообразные повседневные максимы типа «не высовывайся», «будь как все» или «веди себя как положено». Напротив, дискурс современного общества в первую очередь акцентирует сами цели действия, т.е. ту функцию, на осуществление которой оно направлено, или те эффекты, которых оно реально достигает; отсюда повседневные максимы типа «делать дело», «оставить след» или «быть полезным членом общества», также легко соотносимые с ценностями сакрального плана. Это, разумеется, только идеализированные модели, которые в реальности так или иначе объединены, однако они выражают некоторые фундаментальные различия между
императивами поведения в традиционном и современном обществах, хорошо подтверждаемые этнографическими данными. На практике различия между дискурсом традиционного и современного общества можно проследить и в языке, исследуя его категориальные структуры, однако наиболее полно и отчетливо его воплощают повседневные, массовые конфессиональные конфликты. В традиционном обществе самой эффективной конфессиональной гарантией личностной идентичности или социального признания является ритуал, некий стандартный способ поведения, который и рассматривается как предмет откровения, сакральная ценность. Напротив, в современном «западном» обществе наиболее эффективной гарантией личностной идентичности и социального статуса становится призвание, т.е. некое рациональное знание, которое также переживается как сакральная ценность, предмет траисцедентального откровения. По этой причине наиболее распространенные конфессиональные конфликты традиционного общества в основном связаны с проблемой благочестия, тогда как в современном они преимущественно касаются свободы воли.
1.3. Отличия современного общества от традиционного К основным характеристикам традиционных обществ относится прежде всего высокая степень социальной однородности. Она связана с тем, что члены традиционного общества заняты «одним и тем же», ибо общественного разделения труда не существует или оно очень слабо. Поэтому и социальная структура очень проста: общество представляет собой множество автономных индивидов или семей, своего рода «биологических ячеек», живущих на одной территории. Это классический вариант патриархального, или крестьянского общества, где каждое хозяйство кормит само себя, а то, что связывает их в обществе, непосредственно не вытекает из условий их повседневной жизни, носит внеэкономический характер. Такая интеграция осуществляется преимущественно государством. Сильные имперские государства, опирающиеся на бюрократические структуры, довольно типичны для традиционных обществ, особенно восточного типа. Традиционное крестьянское хозяйство базируется, так сказать, на геоприродных алгоритмах. Оно действует как своеобразное автоматизированное производство, в котором человек · действительно элемент природного механизма. Из поколения в
поколение он включен в некоторый природный цикл, не будучи ни творцом, ни конструктором, ни «промотором» этого цикла. Отсюда постоянное воспроизводство одной и той же рутины. Традиционное общество, поскольку оно выступает как единое целое, содержит некие культурные алгоритмы, унифицированные формы сознания, фиксированные и отчужденные от индивидуального сознания и индивидуальных действий. Самая простая форма фиксации – это всеохватывающий ритуал. Есть племена, где тотальный ритуал охватывает буквально всю жизнь: хозяйственную, социальную, интимную. Он обычно существует в виде священных тестов, знаний старейшин, жрецов. Социальная однородность атомизированных индивидов и кодифицированная традиция в дальнейшем приобретают более дифференцированные и сложные формы. Они могут воспроизводиться не только на почве крестьянского труда и крестьянской семьи, но и на базе других форм производительного труда и социального существования, в том числе городских. С этой точки зрения, то, что называется бюрократией, есть трансформированная структура традиционного общества: тот же атомизированный и унифицированный субъект, с одной стороны, и универсальный алгоритм – с другой. Традиционное общество в принципе обладает феноменальной устойчивостью, это самое прочное образование, которое когда-либо создавал человек. К тому же, это единственная до сих пор форма человеческого общества, которая была реализована в полной мере. В Западной Европе традиционное общество продолжало существовать до начала нового времени. Позднее средневековье – это все еще традиционное общество, хотя и видоизмененное. Здесь уже нет явного тотального ритуала, социальная структура более дифференцирована, чем прежде. Продолжают существовать унифицированные алгоритмы поведения. Правящая элита немногочисленна, король остается наместником бога на земле, хотя авторитет его и ослаблен. Постепенно происходит отделение церковного авторитета от государственной власти, хотя религия и церковь как наиболее яркое воплощение ритуализации общества еще долго сохраняет свою роль в обществе. С XII века в Западной Европе начинает формироваться новое, рыночное общество, которое затем и было названо «современным». Рыночное общество характеризуется следующими чертами. Прежде всего – очень высокой степенью социальной неоднородности. В противоположность традиционному обществу, где все одинаковы и
потому заменимы, в развитом рыночном обществе – все незаменимы, потому что каждый индивид или каждая социальная группа выполняют уникальные профессиональные и социальные функции благодаря общественному разделению труда. Далее, рыночное общество фиксирует цели поведения или даже его функции, оставляя свободными формы поведения. Рынок стимулирует поведение инновативное, где каждый индивид, чтобы социально выжить, должен каждый день изобретать что-то новое, предлагать на рынок новый товар, новую стратегию, новые ценности. Чем более инновативен человек, тем сильнее отклоняется он от среднего стандарта, тем лучше вписывается в систему социального разделения труда как носитель чего-то необходимого, что есть только у него. Рыночное общество стало основой современной западной цивилизации. Рынок усложнил общественное разделение труда и соответствующую ему социальную структуру. Адекватной ему политической формой является демократия. Рынок способствует преодолению ритуализации и мифологизации, открывает дорогу секуляризации, хотя и не требует преодоления религии. Одним из следствий и проявлений создаваемой рынком инновативной культуры и непрерывно ускоряемого темпа социальной жизни, равно как и фактором этого динамизма, стало бурное развитие науки, особенно наук о природе, технических наук, технологий производства, что также характерно для современного общества. Таким образом, с рынком меняются социальные институты, социальные структуры, системы ценностей, типы личностей. Естественно, столь радикальные преобразования общества одного типа в общество другого типа занимают исторически значительное время. Становление капитализма и прохождение его ранних фаз заняло в Западной Европе и Америке 200–300 лет. Однако эти страны, несмотря на их роль авангарда в становлении «современного» общества, составляют лишь небольшую часть человечества. Именно этим объясняется актуальность проблемы «традиционное – современное общество», которая состоит в том, что для человечества этот переход далеко не завершен, и разные страны находятся на разных стадиях, ступенях такого перехода. Современный мир находится в состоянии растянутого во времени и глобального по масштабу перерастания общества традиционного типа в общество современного типа. Каждая страна может быть вписана в этот фон, «глобальный контекст», и таким образом может быть определено ее место в данном процессе, а ее внутреннее состояние – описано в категориях такого перехода.
Глава 2. Россия – СССР – Россия: модернизация вдогонку
Если попытаться определить тип общества, которое существовало в СССР, то следовало бы, на наш взгляд, сказать следующее: СССР представлял собой индустриальное общество, возникшее в результате вторичной модернизации, которая обладает рядом особенностей. Она осуществляется главным образом под давлением внешних факторов и имеет слабо выраженные эндогенные стимулы и источники развития. Она насаждается государством, использующим авторитарные и тоталитарные методы, которые в принципе не соответствуют Задачам непрерывной модернизации[2].
2.1. Россия – СССР. Раскрестьянивание через коллективизацию и огосударствление Традиционную цивилизацию называют также «крестьянской», потому что крестьяне не только абсолютно преобладают в обществе, но и определяют тип ведения хозяйства, образ жизни, быт, социальную психологию, культуру общества. В конце прошлого века Россия была крестьянской страной. Крестьяне составляли 85% населения, сельское хозяйство было главной отраслью экономики, главным источником доходов как внутренних, так и внешних (давало треть доходов от экспорта). К концу века распад этого общества уже набрал силу. Его первой вехой стала реформа 1861 года, отмена крепостного права. Однако, крестьяне фактически еще долго оставались в крепостной зависимости. Государство выкупило на 80% землю у помещиков, и теперь крестьянин отбывал повинности уже перед государством, «отрабатывая» полученную землю. С другой стороны, земля была частично передана «миру», и за нее деньги помещикам платила уже община, которая внимательно следила за тем, чтобы каждый крестьянин, не уклоняясь, нес свое «тягло». Понадобилась еще одна реформа – столыпинская, которая стала следующей вехой на пути «преобразования крестьянской цивилизации в России[3].
Согласно серии царских указов, подготовленных П.А.Столыпиным, отменялись все выкупные платежи, и земельный надел, которым крестьянин пользовался, поступал в его частную собственность. Одновременно крестьянин получил свободу передвижения и поступления на работу. Чтобы ослабить зависимость от «мира», общины (последняя все же сохранялась), поощрялось хуторское поселение крестьян. Были приняты и другие меры по развитию независимого крестьянского хозяйства, например, переселение крестьян в Сибирь на свободные земли. Столыпин сделал ставку на семейно-трудовое крестьянское хозяйство как естественную основу и столбовую дорогу сельскохозяйственной деятельности. (Позднее эту простую мысль пришлось специально доказывать[4]). Но поскольку множество хозяйств были слабыми, выжил только крепкий мужик, а многие крестьяне разорились. Столыпинская реформа сопровождалась некоторыми издержками, но в целом была удачной и придала динамизм крестьянскому хозяйству. Результат незамедлил сказаться: уровень сельскохозяйственного производства, достигнутый в 1913 году, был так высок, что вновь был достигнут лишь в 1926 году и долго еще служил точкой отсчета. Таким образом, реформа Столыпина может рассматриваться как важнейший этап модернизации российского общества, где экономические и социальные преобразования должны были открыть путь техническому обновлению. Следующий этап преобразования сельского, крестьянского хозяйства наступил после революции. Он был трагичен для крестьянства и страны в целом и на этапе военного коммунизма и продразверстки, и затем, после небольшой передышки, связанной с введением нэпа, на этапе коллективизации. Именно коллективизация, прошедшая под знаком раскулачивания крепких крестьянских хозяйств, массовые репрессии против крестьян, осуществлявшиеся посредством насильственного образования колхозов с нарушением всех принципов нормальной кооперации, не зря получила сегодня название «раскрестьянивания». Речь идет уже не о модернизации, а о ее противоположности. Этот этап напоминал английский вариант раскрестьянивания: так называемое «огораживание», т.е. насильственный сгон крестьян с земли с последующей насильственной урбанизацией и
пролетаризацией крестьянства. В СССР «огораживание» заменили ссылками и лагерями. Последствия такой модернизации известны: стране был нанесен огромный демографический ущерб. По некоторым расчетам, 14,5 млн. крестьян умерли в результате голода и репрессий[5]. Об экономическом ущербе говорят такие данные: поголовье крупного рогатого скота сократилось с 1928 по 1933–1934 гг. почти вдвое; среднегодовые темпы прироста сельскохозяйственного производства составляли за период с 1929 по 1938 год 1%; только в 50-е годы был достигнут уровень 1913 года производства сельскохозяйственной продукции на душу населения, и только со второй половины 50-х годов уровень 1913 года стал превышаться устойчиво по основным показателям (валовой сбор зерна, поголовье скота, производство мяса)[6]. Серьезно о технической модернизации сельского хозяйства можно говорить лишь применительно к послевоенному периоду. При значительном насыщении сельского хозяйства современной техникой в нем все же сохранялся тяжелый ручной труд (до 70%) из-за некомплектности и плохого использования техники. Результат – низкая производительность труда в целом. В СССР в 1990 году было занято в сельском хозяйстве 22 млн. чел. (20% общей занятости). Это больше, чем во всех странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), включающей США, Канаду, Австралию. Но произведено продукции было в 5 раз меньше, чем в этих странах. Соответственно, производительность труда в советском сельском хозяйстве составляла 20% от среднего уровня стран ОЭСР и 10% от уровня США[7]. Все это означает, что даже в техническом отношении сельское хозяйство в СССР далеко не стало хозяйством современного типа. А сегодня, когда Россия находится в состоянии кризиса и увеличивать продукцию сельского хозяйства необходимо буквально любой ценой, тенденция к натуральному крестьянскому хозяйству может усилиться. Крупные товарные фермерские хозяйства, которые могли бы стать конкурентами колхозам и совхозам, насчитываются единицами. Изменения позитивного плана коснулись, главным образом, личных подсобных хозяйств, где в последние годы возросли поголовье скота и производство овощей, несколько компенсировавшие падение производства в общественных хозяйствах. Но ЛПХ способны прокормить, в
лучшем случае, своих владельцев и их городских родственников. Горожане и сами вынуждены превращаться в «крестьян по воскресеньям», что не способствует развитию общественного разделения труда и связанного с ним рынка. Социальная сущность коллективизации как модернизации должна быть переосмыслена. Если отмена крепостного права и столыпинская реформа расширяли действие института частной собственности – на землю, орудия труда, произведенный продукт, – втягивая крестьянство в рыночные отношения, то национализация земли после Октябрьской революции вновь изымала землю из рыночного оборота. Долгое время в государственной собственности находились и основные средства производства – машинно-тракторные станции. Позднее техника была выкуплена колхозами, что не всегда и теперь радует крестьян из-за ножниц между низкими ценами на сельскохозяйственную продукцию и высокими – на сельхозтехнику. Даже произведенная продукция не всегда становится собственностью производителя, как индивидуального, так и коллективного, чему свидетельство – продразверстка, плановые поставки государству, высокое налогообложение. Все это дает основание заключить, что в социальном плане коллективизация была возвращением к традиционному обществу. Экономическое бесправие крестьянства закреплялось паспортной системой, лишавшей крестьян свободы перемещения и переселения. Последнее допускалось лишь как организованный государством набор рабочей силы. Теперь стали общеизвестными факты насилия над крестьянами, «рукотворного» голода, факты восстаний и других форм сопротивления коллективизации. Крестьяне мучительно приспосабливались к коллективным формам хозяйствования, даже не смотря на глубокие корни общинности. Однако фактом является то, что сегодня крестьяне (а не только председатели колхозов) в значительной своей части против разрушения колхозов и совхозов, к которым за полвека они адаптировались. Причины этого и экономические (отсутствие подворий, техники и т.п.), и социально-психологические: страх перед общим разрушением хозяйства; нежелание ломать привычное равновесие между работой в общественном и личном хозяйстве; отношение к государству как гаранту социальных благ (детсады, клубы, жилищное строительство на селе, социальная помощь) и т.д. Рынок же, особенно купля-продажа земли, страшат своей непредсказуемостью, стихией, социальными катаклизмами («черный передел»), угрозой потерять и то, что имеешь.
История социально-экономических отношений в нашей стране подтверждает мысль о том, что модернизация вдогонку усиливает роль государства, которое на время оказывается заменой рынку, берет на себя его регулятивные функции.
2.2. СССР: военно-государственная индустриализация Расставание с крестьянской цивилизацией, ее разрушение – только часть процесса становления общества современного типа. Не менее важна и конструктивная его часть – процесс индустриализации. Обычно индустриализацией у нас называли политику советской власти 20–30-х годов, направленную на осуществление перехода от аграрной и аграрно-индустриальной структуры экономики к экономике индустриального типа по показателям роли промышленности в создании валового национального продукта и национального дохода, доле занятых в промышленности, работающих с использованием машин и механизмов и т.д. Но все эти процессы начались раньше. Следует напомнить, что Россия конца XIX – начала XX веков уже вступила на этот путь и продвигалась по нему довольно успешно. Об этом свидетельствует, в частности, увеличение протяженности железных дорог с 1890 по 1913 год в полтора раза[8]. Еще важнее, что этот показатель с учетом численности населения оказался в России очень близким соответствующему показателю для Европы, где на 388 млн. жителей приходилось 204 тыс. км. железных дорог, а в России – на 131 млн. населения 63 тыс. км. железных дорог. Таким образом, на каждую тысячу населения в Европе приходилось 0,52 км, в России – 0,43 км[9]. Если темпы индустриализации России были неплохими, то стартовые позиции все же более низкими по сравнению с Западной Европой и тем более с Северной Америкой: например, добыча угля в России составляла 16 млн. тонн, а в США · 245 млн. тонн на начало века. Так возникла проблема «догона» и вторичной модернизации. Но вряд ли тогда она воспринималась в общественном сознании как потеря престижа, уничижение национального достоинства или отказ от самобытного развития. Не следует
драматизировать: вторичную модернизацию совершает абсолютное большинство стран и только единицы из них – лидеры технического прогресса – осуществляют первичную модернизацию. Этап вторичной модернизации был в дореволюционной России относительно успешным, но кратковременным. Он был прерван первой мировой войной, революциями и гражданской войной и возобновлен лишь во второй половине 20-х годов. Предвоенный уровень производства удалось восстановить лишь 1928 году. Индустриализация, которая развернулась в СССР в 20–30-е годы, также носила вторичный характер. И дело не только в отставании как таковом. Добавились новые политико-идеологические факторы. Считалось, что страна строит социализм и, как новый общественный строй, он «опережает» капитализм. Это усиливает конфликт между ними. Социализм должен доказать и реализовать свои преимущества в условиях враждебного окружения и угрозы войны. «Догон» ассоциировался с выживанием, и это наложило отпечаток на характер индустриализации. Она носила вынужденный характер, совершалась под внешним давлением, с преобладанием экзогенных факторов. Когда надежды на мировую революцию не оправдались, возникла идея враждебного капиталистического окружения, которая во многом способствовала форсированной индустриализации с применением любых средств накопления капитала: «первоначального социалистического накопления» за счет крестьянства, принудительного труда в системе ГУЛАГа и др. И сейчас историки спорят о том, была ли угроза войны в 20–30 -е годы реальной для СССР или идеологический пресс нужен был преимущественно для достижения внутренних целей. Так или иначе, модернизация пошла по пути преимущественного развития военной промышленности, которая ассоциировалась с тяжелой промышленностью. В дальнейшем военная угроза стала реальной и вылилась в войну, но и после второй мировой войны индустриализация, которая вошла в зрелую стадию, продолжала осуществляться в милитаризованном варианте, что создавало дополнительные экономические трудности для страны с низким уровнем жизни населения. И сегодня мы страдаем от того, что производство средств потребления остается неразвитым, а конверсия военного производства, в свою очередь, требует новых крупных затрат. Таким образом, фактор внешнего давления, реального или мифического, со временем из мобилизующего стал тормозящим. Другой чертой индустриализации в СССР стал ее тотально государственный, этатистский характер. В 20–30-е годы страна
переживала раннеиндустриальную стадию развития. Для нее характерны ручной труд, в лучшем случае при машинах и механизмах, и низкая квалификация работника, практически не имеющего предварительной подготовки. За таким работником требуется жесткий внешний контроль. Это стало предпосылкой возникновения такой социотехнической системы, прежде всего на уровне отдельного предприятия, в которой все работают как «винтики» одного механизма, принимаемые решения носят директивный характер, отклонения от них не допускаются. К тому же жесткая производственная дисциплина дополнялась усиленной идеологической обработкой. Как социотехническая эта система свойственна определенному этапу развития ряда стран (отсюда тэйлоризм). Но в СССР она в стрессовой социальной ситуации была перенесена на общество в целом и стала одной из предпосылок бюрократического типа хозяйственного управления, получившего в последнее время название «административно-командной системы». Такая система почти не пользуется экономическими рычагами, индивид в ней практически перестает быть субъектом экономической деятельности, поскольку не принимает никаких решений. Субъектом становится государство в целом. Постоянно по всякому поводу поступают директивы с самого высокого уровня, а работник из инициативного превращается в конформного исполнителя. Таким образом, индустриализация в СССР приобрела характер милитарной и этатистской, диктуемой государством. Эти особенности усиливали установку на «догон», и без того свойственную странам, переживающим вторичную модернизацию. В отдельные периоды идея «догона» приобретала статус государственной политики. Так, по настоянию Н.С.Хрущева, показатели экономического развития США фактически были положены в основу Программы КПСС и соответствующих пятилетних планов, в качестве ориентира для достижения. Когда же Программа оказалась невыполненной, идея догона также была дискредитирована и снята как лозунг, но не могла исчезнуть по существу. Более того, падение «железного занавеса», постепенное расширение доступа к зарубежной информации, поездки все большего числа советских людей за границу закрепили за развитыми странами роль эталонов развития. Модернизация вдогонку в нашей стране затянулась и превратилась в ставшее хроническим «догоняние». Впрочем, в разные периоды дело обстояло по-разному. Так, проведенные в США в конце
50-х годов исследования советской экономики привели их авторов к выводам, что «Россия переживает чрезвычайно быстрый экономический рост на протяжении последнего десятилетия» и что «советский экономический вызов реален и опасен... »[10]. Первая половина 60-х годов была успешной и привела к росту уровня жизни, о чем люди старшего поколения знают по собственному опыту. Затем усилилось отставание, превратившееся в жесткий кризис. Система административного управления исчерпала свой «срок годности», но не была своевременно заменена эффективными социально-экономическими и политическими механизмами, соответствующим потребностям интенсивной модернизации. В результате сегодня серьезной угрозой для страны стал «феномен слаборазвитости», т.е. усиления отставания, несмотря на прилагаемые усилия догнать развитые страны. Возникает вопрос, можно ли более детально, качественно и количественно, оценить наше отставание? Разумеется, соответствующие анализы и расчеты делались неоднократно. Согласно некоторым из них, СССР занимал в 1985 г. 68-е место по показателю валового внутреннего продукта на душу населения, что составляло 39,9% от уровня США[11]. Существует и более содержательный способ соотнесения с мировым развитием, основанный на концепции длинных волн Н.Д.Кондратьева[12]. Н.Д.Кондратьев назвал открытые им 50-летние волны экономического развития циклами экономической конъюнктуры. Теперь они получили более широкую интерпретацию и рассматриваются как длинные волны научно-технического прогресса. Считается, что, начиная с первой промышленной революции, современные индустриальные страны прошли уже четыре волны, и страны-лидеры открывают пятую. Каждая волна имеет свои ключевые технологии, на развитие которых расходуются основные средства и которые формируют в конечном счете структуру отраслей экономики. Так, первая волна характеризовалась механизацией ткачества, вторая – дешевым углем и паровым двигателем на транспорте, третья – развитием металлургии и машиностроения. Четвертая волна, которую сегодня переживает большинство стран мира, основана на дешевой нефти и электроемких материалах, характеризуется нефтепереработкой, развитием химической
промышленности, развитым автомобилестроением. Ей соответствует определенная организация производства: конвейер, специализированная рабочая сила средней квалификации и т.д. Для пятой волны ключевым является развитие микроэлектроники, новых информационных средств и соответствующих производств и инфраструктуры, характерна потребность в высококвалифицированной рабочей силе, а также отказ от универсального и массового производства в пользу разнообразия и гибкости. Пятая волна – это информатизация общества. В эту фазу вступили США, Япония, Германия и другие развитые страны. В 70–80-е годы в СССР наиболее быстрыми темпами развивались такие отрасли, как нефтедобыча, прокат черных металлов, автомобилестроение, химическая промышленность, т.е. типичные для четвертой волны научно-технического прогресса. Но развитые страны тогда переживали глубокий структурный кризис, который ознаменовал перестройку экономики при входе в пятую волну. Следовательно, отставание СССР от развитых стран составляло полуволну, или 20–25 лет. При этом надо учитывать содержательные различия между волнами. Так, считается, что пятая волна знаменует собой «постиндустриальное» общество, где не столько промышленность, сколько наука и информация определяют основные стороны жизни общества, а это уже новое «качество». Догон как таковой вряд ли возможен, поскольку динамизм каждой следующей фазы развития выше предыдущей. В итоге он оборачивается феноменом слаборазвитости. Надо заново, по-иному поставить проблему. «Догон» в современном смысле коррелирует с «открытостью» систем, зон, границ, культуры. Не повторение пройденного пути, а вхождение в современную цивилизацию здесь и сегодня, по разным направлениям. Непрерывная техническая модернизация внутренне и органично связана с проблемой рынка как принципиально инновативного механизма, который ускоряет обновление производства через прямую заинтересованность работника в результатах труда и конкуренцию производителей на рынках сбыта. Однако здесь не может быть гарантий успеха, ведь рынок порождает и механизмы блокировки конкурентов, монополизм, на нем происходит жестокая борьба. Можно привести примеры индустриализации в условиях господства рыночных отношений, которая, тем не менее, была малоуспешной, затяжной и не привела к догону, и другие примеры – успешной модернизации вдогонку, проходящей в условиях
авторитарных режимов, ограничивающих свободу рынка (Южная Корея, Чили). Выше говорилось об этатистском характере советской индустриализации. В ней мотивация строилась как довольно сложное образование, включающее прямые и косвенные, материальные и «моральные» (духовные, идеологические) стимулы. Прямое материальное стимулирование было довольно ограниченным, в результате зарплата – а с нею и производительность – имели «потолок», а рабочая сила была очень дешева. Систему материального стимулирования, которая постоянно оказывалась малоэффективной, дополняла развитая сеть общественных (государственных) фондов, через которые шло удовлетворение значительной части потребностей населения (бюджетное финансирование образования, медицины, культуры и т.д.). Как заметил однажды Е.Т.Гайдар, для страны среднего уровня экономического развития мы имели весьма развитую социальную сферу, что являлось нашим немалым достижением, которое следует сохранить. Надо сказать, что на известной стадии (экономический подъем 60-х годов) развитые капиталистические страны воспользовались нашим опытом и встали на путь создания разнообразных социальных программ. И сегодня, когда основная масса населения России, как показал апрельский (1993 г.) референдум, поддерживает курс на развитие рыночной экономики, существуют значительные слои, которые высоко оценивают гуманистический смысл распределения благ через общегосударственные фонды. Таким образом, индустриализация, как и другие модернизационные процессы, может осуществляться в рамках абсолютного господства государственной собственности и соответствующих ей распределительных отношений, следовательно, в условиях отсутствия свободного рынка. Но нельзя не признать, что, имея значительные научно-технические достижения в отдельных областях, особенно военных, страна не смогла решить в целом проблему догона. Она была и остается в лучшем случае среднеразвитой страной, а в настоящее время находится перед реальной угрозой нисхождения в состав «третьего мира». Отсюда и стремление удержаться в «цивилизованном» мире (или войти в него?) с помощью использования механизмов рынка, на которых этот мир основан.
2.3. Модернизация и социальная структура Каждый этап развития общества имеет свою социальную структуру: специфический состав социальных групп и соотношение между ними. Так, на смену крестьянству, абсолютно преобладающему в традиционном обществе, приходят предприниматели и рабочие в индустриальном обществе, а с развитием научно-индустриального производства, сфер услуг и культуры резко возрастает численность специалистов и их роль. Для переходного общества характерна гетерогенная структура с элементами технических укладов от до- и раннеиндустриального до научно-индустриального. Это особенно относится к тем подструктурам, которые непосредственно детерминируются научно-техническим развитием – отраслевой и квалификационно-должностной. Приведем некоторые данные. Структура ВНП в США и СССР формировалась в 1989 г. по вкладу, который вносили в него различные отрасли и занятые в них, следующим образом (в процентах):[13]
Таблица 1.
Как показывает таблица 1, отраслевая структура занятости в СССР не представляется особенно отсталой и соответствует мировым тенденциям развития (в динамике это более очевидно). Одновременно видна и стадия развития СССР – индустриальная, в то время как в США – постиндустриальная. Но и индустриальная фаза в СССР была не вполне завершена. Это видно, если обратиться к показателям характера труда рабочих промышленности. По степени механизации их труда они делились на группы: [14]
Таблица 2.
Состояние этого показателя удручающее: треть ручного труда в промышленности и низкие темпы его преодоления говорят сами за себя. Группа специалистов привлекает особое внимание как та, с которой связаны перспективы научно-технического прогресса. Численность специалистов с высшим и средним специальным образованием в расчете на 1000 занятых в промышленности, на транспорте и в связи составляла соответственно в СССР 179, 107, 138 человек против 250, 228, 336 человек в США (начало 80-х годов)[15]. Эта характеристика должна быть интерпретирована в том же плане: как проявление закономерностей индустриального развития, но и известного отставания, о чем уже шла речь. Социально-профессиональная, профессионально-квалификационная и отраслевая подструктуры советского общества детально изучались социологами на протяжении длительного времени[16], и по крайней мере, часть авторов приходила к трезвым и критическим выводам относительно состояния страны, в том числе переходного и проблем ее социальной структуры. Понятно, что более важным срезом социальной структуры является анализ социальной дифференциации и социальной иерархии, обусловленных отношениями собственности и власти. Именно в интерпретации этих
проблем было больше всего идеологических запретов раньше и формируется более всего новых подходов теперь. Пожалуй, важнейшим теоретическим положением, носившим характер идеологической догмы, было утверждение, что наше общество движется к достижению социальной однородности, а значит и стиранию классовых различий, построению бесклассового общества. Поскольку речь идет не о мечте, а о реальности, то уместно задать вопрос – так ли это было? А если так, то «хорошо» ли это? Но прежде чем перейти к анализу данных, напомним, что социальная структура с высокой степенью социальной однородности низших групп присуща именно традиционному обществу, как характерна для него и закрытость социальной структуры, низкий динамизм: социальные перемещения не исключаются, но крайне затруднены, поскольку юридически закрепляются «перегородки» между группами, превращая их в касты, сословия. Напротив, современное, индустриальное и постиндустриальное рыночное общество характеризуется, хотя и довольно высокой дифференциацией, но большой открытостью, высокой мобильностью, в том числе и вертикальной, что обеспечивается наличием разного рода «лифтов» с высокой степенью доступности. Высшие классы всегда относительно малочисленны, пройти всю социальную лестницу за одну жизнь могут лишь единицы, остальная же масса активных людей, которые стремятся реализовать свой потенциал и получить дополнительные блага, продвигается на более короткие дистанции. Здесь и формируются средние слои, социальной функцией которых является поддержание динамизма социальной структуры, придание ей, с одной стороны, открытости, с другой – устойчивости. Вертикальные потоки направляются не только вверх, но и вниз, и здесь средние слои вновь оказываются стабилизаторами: они спасают от чрезмерной маргинализации, деклассирования, образования многочисленного социального низа, склонного к экстремизму и асоциальному поведению. Средние слои, таким образом, выполняют важные позитивные функции. Рост уровня и качества жизни массовых средних слоев стал формой исторического прогресса. Одним из первых это заметил Ортега-и-Гассет. Какое же место между социальными структурами, одна из которых символизирует «прошлое», а другая – «будущее», заняла наша страна? Видимо, тезис о существовавшем движении в направлении к социальной однородности должен быть, если не оспорен, то по меньшей мере переосмыслен, в том числе и в связи с
описанием перехода от общества традиционного типа к современному обществу, как должно быть пересмотрено и отношение к средним слоям. Нельзя сказать, что движения к «однородности» не было вовсе: по некоторым критериям «стирание различий» действительно происходило. Например, равное отношение к собственности на средства производства имело место для большинства населения, но оборачивалось отчуждением от собственности всех трудящихся классов, что сказывалось на производительности, дисциплине труда, приводило к ослаблению стимулов деятельности, а тем самым к деклассированию групп, маргинализации и в конечном счете разрушению социальной структуры[17]. Несомненно, происходило также сближение в оплате труда массовых социальных групп, например, инженеров и рабочих, что рассматривалось как признак «социальной однородности». Если принять зарплату рабочих за 100%, то зарплата инженеров менялась по отношению к первой следующим образом: 1940 г. – 215%; 1965 г. – 146%; 1980 г. – 115%[18] (во Франции, в это время соотношение было 1:3,2). В результате такой однородности в СССР возникли проблемы инженерного труда, которых не знал Запад: недоиспользование инженеров на производстве в их прямых функциях при перегрузке неспецифическими функциями, плохая организация и низкая отдача инженерного труда и, как следствие, падение престижа инженерного труда, отлив молодежи из соответствующих вузов, ухудшение подготовки инженеров. Такие проблемы инженерного корпуса вряд ли могли способствовать успеху модернизации производства. То же можно сказать о зарплате в сфере образования, медицины и других областях. Стремление к социальной однородности в силу политических и идеологических установок приводило к ликвидации всех более или менее элитарных групп: рабочей аристократии в среде рабочих, интеллектуальной элиты как «буржуазной» прослойки в среде интеллигенции. В результате ухудшались социальные качества этих групп, уменьшалась профессионально-квалификационная, должностная и прочая дифференциация между этими группами. Структура оказалась слишком плоской, чтобы создавать стимулы к труду и продвижению. Это наносило ущерб социальному
динамизму общества. Одним из последствий этого процесса стало усиление самовоспроизводства, т.е. «закрытости» ряда социальных групп, например, интеллигенции, как защитная реакция на их размывание. Обобщая все эти процессы, Т.И.Заславская и Р.В.Рывкина прямо ставят на одну социальную ступень специалистов, служащих, квалифицированных и неквалифицированных рабочих, называя это «горизонтальным срезом» профессионально-должностной подструктуры[19]. Социальная однородность низших, или основных классов общества уживалась с немалой, но малоизвестной, тщательно скрываемой дифференциацией по уровню и качеству жизни расположенных по вертикали социальных групп («вертикальный срез»). О «номенклатуре» как «новом классе» советского общества впервые заговорили на Западе в 50–60-е годы[20]. Но эта группа была так «засекречена», что сказать что-либо достоверное о ней в СССР стало возможно лишь в последние годы. Но и сегодня номенклатура сохраняет свою кастовость и закрытость, все больше становится как бы «теневой структурой». Главный источник существования и силы номенклатуры – не собственность, но власть. Последняя давала номенклатуре права и возможности неконтролируемого распоряжения государственной и партийной собственностью и пользования ею в форме привилегий. Известен состав номенклатуры: это работники органов государственного управления высшего ранга, т.е. собственно бюрократический слой; высшие руководители производства, НИИ, КБ, или «технократия», призванная играть в процессах модернизации решающую роль; наконец, партийные и советские работники, группа, которая сегодня оценивается как «особая система элитарно-иерархической власти, существовавшая наряду с государственной властью или даже вместо нее»[21]. Номенклатура – в принципе «закрытая» группа. Она пополнялась под жестким контролем за соблюдением определенных критериев. Главными из них были социальное происхождение, партийная принадлежность, тип карьеры. Так, свыше 80% секретарей ЦК компартий союзных республик, крайкомов, обкомов, председателей Советов министров, краевых и областных исполкомов и около 70% министров и председателей Госкомитетов СССР
начинали свою деятельность рабочими и крестьянами[22]. Членство в партии было для номенклатуры обязательно. Занятие партийных должностей – главный лифт для формирования этого слоя. Какова же была дифференциация между группами, расположенными по горизонтали и по вертикали? Это и сейчас сказать трудно, т.к. обнародована лишь незначительная часть информации. Поэтому для обыденного сознания вопрос сводится к привилегиям, а последние – к «дачам». Некоторые расчеты, похожие на «раскопки», произведенные, например, А.С.Зайченко, показывают, что дифференциация по доходам между номенклатурой и горизонтальными группами в СССР мало отличалась от разницы в доходах между 10% высших и 10% низших групп по доходам в США[23]. Но главная проблема состояла в том, что высший класс «раны, который в идеале состоит из менеджеров высокого ранга и крупных политических деятелей, крупных ученых-администраторов и необходим обществу как одна из мощных модернизационных сил, по способу формирования и функционирования превратился в паразитический слой общества и имел тенденцию превратиться в наследственную элиту. Беда нашего общества – в неэффективности и безответственности его высшего класса. Описанная социальная структура – плоская, «однородная» по горизонтали система групп и малодоступная, расположенная по вертикали управленческая элита – напоминают структуру традиционного или раннеиндустриального общества, разумеется в новых условиях. Не так ли? Выше говорилось, что «средние классы» – примета современного общества и его социальной структуры. Были ли они в СССР? Если средние классы отрицались нашей социологией применительно к западному обществу, то тем более считалось, что их у нас нет. И не без основания. Конечно, всегда можно рассчитать средние места по шкале профессий, уровню образования и зарплате, но это номинальные группы. Реальными они становятся тогда, когда превращаются в субъектов социального действия, осознают свои специфические интересы, создают свой способ организации, выполняют определенные функции по отношению к индивиду, группам, обществу в целом. И все же, согласно А.Зайченко и другим ученым, средние слои у нас зарождались. Их величину перед
перестройкой оценивают в 11–13%. Их признаки – наличие автомобиля, кооперативной квартиры, дачи и престижной домашней техники длительного использования. Зайченко утверждает, что половина среднеобеспеченных слоев паразитировала на дефиците, т.е. имела отношение к теневой экономике. В то же время описываемый этими признаками средний класс составлял в Венгрии 40–50%, а в ГДР – 50–70%. Перестройка способствовала разрушению старых структур и формированию новых. Она создала новые социальные «лифты», усилила доступность существовавших ранее, создала новые восходящие, как, впрочем, и нисходящие потоки. Неудивительно, что при этом усилилась дифференциация по доходам и уровню жизни, но и социальная лестница стала намного более многоступенчатой. Логично было бы предположить, что решающим фактором в этом процессе усложнения социальной структуры и образования новых социальных слоев и новой дифференциации станет провозглашенный плюрализм форм собственности и соответствующие законы, т.е. становление рыночных отношений. Но статистика распределения занятости по формам собственности – от занятости на госпредприятиях до занятых в сфере частного и индивидуального предпринимательства (фермеры, ЛПХ, ИТД, работающие по договору) – показывает, что все новые формы за вычетом государственной и колхозно-кооперативной собственности вобрали в себя лишь 7,7% занятых в 1990 году и 14,1% в 1991 году[24]. Это очень немного, на наш взгляд, чтобы вызвать серьезные сдвиги. Однако есть еще теневая экономика, которая рассчитывается экспертно. Занятость в ней оценивается на конец 80-х годов в 30 млн. чел., т.е. 25% от общей занятости бывшего СССР[25]. Таким образом, процесс формирования новых структур начался, но кризисное, нестабильное состояние общества, пережитки тоталитаризма в виде бюрократизации (старой и новой), историческое отставание на пути превращения в современное постиндустриальное общество накладывают на него печать так называемых «нецивилизованных», а на самом деле раннекапиталистических форм. «Переход» продолжается.
2.4. Рынок и государство как механизмы модернизации Модернизационные процессы, описанные выше, получили новые стимулы к развитию в процессе перестройки. Оказалось невозможным просто ускорить научно-технический прогресс при сохранении старых механизмов планово-государственного управления. Модернизация пошла вглубь. Ее логика привела к необходимости восстановления механизмов рыночной экономики как наиболее адекватных процессам непрерывной модернизации. Государство не могло больше оставаться тоталитарным. Изменения в соотношении этих двух механизмов регулирования – рынка и государства – стало одной из главных причин экономического спада и обострения политической борьбы. Хотели лишь «вписаться» в современную цивилизацию, быть «не хуже других», а оказались перед лицом рынка, универсального механизма с его законами, большими экономическими возможностями, но и с не меньшими социальными опасностями. При всех различиях рыночного и государственного регулирования хозяйства, оба эти механизма регулирования не находятся в соотношении «или-или», более того, они всегда сосуществуют. Возможны следующие наиболее типичные их сочетания и взаимодействия. Первый случай: «рынок без берегов», господство экономической стихии, размеры государства минимальны. Второй случай, тоже крайний: государство целиком берет на себя регулирование экономических связей и делает это административными, внеэкономическими методами. Между крайними случаями возможны различные сочетания рыночного регулирования и государственного управления. Это не только «идеальные типы». Они имеют исторические аналоги. Так, на ранних стадиях капитализма господствовал известный принцип «laisser faire, laisser passer», т.е. принцип экономической, ничем не ограниченной, индивидуалистически понятой свободы действий собственников. В капитализме XX века сложились формы так называемого «регулируемого рынка», т.е. в той или иной форме удачно сочетающие рыночное саморегулирование с умеренным и ограниченным государственным вмешательством в экономику. XX век дал также достаточное количество примеров авторитарных и даже тоталитарных режимов, которые являются воплощением второго варианта – административного управления экономикой.
В общей форме можно сказать, что все отстававшие в своем развитии страны, начиная с Советской России 20-х годов, возлагали надежды на социализм. Последний ассоциировался с всемерным огосударствлением экономики, с приматом государственного распределения и перераспределения благ и, более того, с отказом от товарно-денежных отношений, ограничением или даже уничтожением рынка, взамен которого вводилось централизованное планирование. Практика такого государственного хозяйствования при установке на всемерное свертывание рынка к настоящему времени уже, видимо, окончательно ответила на вопрос о возможностях государства заменить рынок. Планирование из центра, тем более директивное, жесткое планирование по натуральным показателям, просто невозможно в современной сложной и масштабной экономике, ибо невозможно проследить судьбу 25 млн. показателей, связанных между собой миллионами прямых и косвенных зависимостей. Возникающие диспропорции носят характер не случайных отклонений в результате ошибок, они – закономерность. Рынка же, который смог бы их сбалансировать с помощью механизмов спроса и предложения, не только нет, но с ним борются. В результате «год от года диспропорции нарастают и влекут за собой такие потери, которых не знает ни одна рыночная экономика даже в период самых глубоких кризисов»[26]. Рано или поздно складывается парадоксальная ситуация: сверхцентрализованное планирование приводит к тому, что экономика развивается не только стихийно, но и анархично, становится неуправляемой. Эта ситуация низкой эффективности государственной собственности повсеместна и этим пренебречь уже нельзя. В развитых странах на государственных предприятиях отмечают снижение качества продукции, мотивации к инновациям, риску, падение производительности труда. Часть стран третьего мира также надеялась войти в современную индустриальную цивилизацию с помощью социализма, более близкого им по традициям общинности и коллективизма и способного, как ожидалось, смягчить социальную цену и ускорить ликвидацию слаборазвитости. Применялась классическая схема государственного управления экономикой: обобществление сельского хозяйства, национализация промышленности, уничтожение или ограничение рынка, введение всеобъемлющей плановой централизованной системы т.д. Однако
нынешнее разочарование связано именно с тем, что гораздо быстрее экономический рост происходит в странах, втянутых в процесс капиталистического развития. Последние используют плюрализм форм собственности для того, чтобы своевременно корректировать, особенно в периоды кризисов, управление и давать преимущества то частному сектору с его экономической эффективностью, то государственному – с его социальными программами. Именно на этот путь совмещения различных форм собственности и максимального использования возможностей каждой из них сегодняшняя Россия и пытается перейти. Но путь этот, естественно, мучительный, т.к. требует не только радикальных экономических, но и всех прочих – правовых, культурных и т.д. – преобразований, включая изменение мировоззрения, идеологии, систем ценностей, психологических установок, мотивации и т.д. Таким образом, модернизация не может быть понята чисто сциентически – как научно-технический прогресс. В лучшем случае таковым она является в странах непрерывной, «первичной» модернизации, когда остальные сферы жизнедеятельности общества также модернизируются стихийно, постоянно, непрерывно. В условиях «модернизации вдогонку» такие перемены носят взрывной, революционный характер, вызывают кризис, что мы и испытываем на себе. Сохраняется ли возможность для выбора пути? Говорят, альтернативы развития сохраняются всегда. Это не совсем верно, т.к. в истории чередуются «открытые» и «закрытые» периоды развития, т.е. периоды, действительно открывающие возможности выбора альтернатив, вариантов развития и другие периоды, когда выбор сделан и начинается процесс реализации избранного. Конечно, и здесь «варианты» путей сохраняются, но, видимо, на другом уровне – на уровне выбора конкретных форм преобразований, последовательности решений, жесткости или мягкости курса и т.д. Представляется, что выбор пути в России уже сделан. Модернизация вдогонку началась в России давно – по крайней мере, в конце прошлого века, и проходила разные этапы. Сегодняшний – один из самых радикальных.
Глава 3. Модернизация и глубинный конфликт ценностей в РоссииСреди множества проблем, стоящих перед нашим обществом и соответственно перед наукой, едва ли не наиболее важная – проблема неких скрытых «пороков» развития. Пока модернизация в России как один из видов «догоняющего» развития слишком часто обращается в неорганический процесс, порождающий перманентную дезорганизацию. Это происходит потому, что ее обычно сводят к освоению готовых культурных образцов, преимущественно к заимствованию технических новшеств. Однако модернизация – прежде всего социальный и культурный процесс, включающий упорную работу по созданию новых ценностей и смыслов, новой системы ценностей.
3.1. От «морально-политического единства» к конфликту ценностей Отринутая ныне идеология содержала в качестве своего важнейшего представления идею «морально-политического единства» общества, чем пыталась обеспечить у большинства его членов ценностный консенсус относительно важнейших вопросов общественного бытия, системность мировоззрения как элемент стабильности сознания, устойчивости «социально-психологического самочувствия». Отказавшись от этой официальной доктрины, общество тем самым открыло для себя существующее и существовавшее всегда разнообразие ценностей. Разнообразие ценностей – естественное состояние человеческих сообществ. Как и остальные базовые элементы человеческого существования, разнообразие ценностей принципиально амбивалентно и потенциально содержит возможность позитивных и негативных интерпретаций и процессов. Особым случаем ценностного разнообразия является наличие в современных обществах традиционных ценностей и структур, сложившихся на доиндустриальной стадии их развития, иногда совершенно архаичных по своему содержанию. В принципе, сосуществование (даже в современных обществах, например, в США) традиционных и модернизированных форм и элементов – обычное дело[27]. Тем более обычной
такая ситуация является для развивающихся обществ, где массив традиционных ценностей значительно больше, вплоть до того, что модернизированные элементы иногда существуют как «анклавы» – вкрапления среди моря традиционных структур. Некоторым развивающимся обществам удалось использовать культурную «архаику» как ресурс для модернизации, «встроить», вписать ценностные комплексы, сложившиеся в условиях докапиталистического развития, в модернизационные процессы и контексты. Факт утилизации древнего культурного опыта постоянно будоражит наше сознание, в чем одна из причин удивления достижениями недавно еще отсталых новых индустриальных стран Азии, не говоря уже о вырвавшейся вперед Японии. В общем-то, как это ни странно, иногда для целей развития может быть использован неопределенно широкий диапазон привлекаемых культурных элементов, иными словами, в определенных условиях все, что имеется в наличии, как будто, может быть превращено в ресурс, в «строительный материал» для достижения поставленной цели. В одних случаях в качестве такого ресурса пытаются использовать сохранившиеся обычаи, традиции, привычки, в других – сырье, материальное богатство, в третьих – людей, превращаемых в средство осуществления «исторической задачи», в четвертых – «мотором» модернизации предстают самоэксплуатация, самосовершенствование, самодисциплина, конкурентные отношения и т.д. В конечном итоге используется то, чего, как кажется, достаточно, что есть в избытке. Однако цель, как всегда, отнюдь не безразлична к средствам ее достижения. Для успешной модернизации общества необходима определенная иерархия базовых ценностей. Фундаментальные ценности должны не только свидетельствовать о готовности общества к переменам, которые несет с собой модернизация, стремлении достаточного числа социальных групп взять на себя задачу выступить субъектами изменений, но также достаточно реалистическое представление о цели движения, о способах ее Достижения. Теоретики модернизации показали, что изменение в процессе модернизации совершается только тогда, когда на каждой из предшествовавших стадий создается определенная комбинация факторов, подобно тому как на производстве возможно получить конечный продукт лишь соблюдая последовательность технологических операций[28]. Т.Парсонс,
специально исследовавший проблему эволюционных универсалий, сумел выделить определенный порядок развития, включающий десять подобных универсалий, соответствующих примитивным, переходным и модернизированным обществам[29]. Особенно важным является то, что теоретические конструкции Парсонса оказалось возможным эмпирически обосновать, что было сделано американскими социологами Г.Баком и Э.Джекобсоном. Последние изучили 50 обществ, показав, что «социальное изменение имеет определенную структуру или последовательность... эволюционных стадий, через которую проходит большинство общества»[30]. Таким образом, определяющим является соотношение традиционных элементов и ростков модернизированных структур, ценностное содержание процессов их взаимодействия, последовательность в накоплении новых качеств, позволяющая в конце концов достичь меньших напряжений в процессе развития, большей органичности социальных изменений, не утерять системное качество на пути модернизации. Столь же важным может считаться само представление о модернизации как осознанной цели, учитывая, что вполне возможны достаточно серьезные социальные изменения, включающие элементы модернизации, где последняя выступает как неотрефлексированный результат массовых социальных процессов. Модернизация как осознанная цель общественного развития зависима от сложившихся в обществе представлений о ценности личности. Чем более сильны в обществе традиционные элементы, тем сильнее тенденция направить модернизационные процессы на достижение целей, лежащих вне конкретного реального человека. Всю историю Советской России человек использовался как средство для неких более высоких целей. И индустриализация, ради которой был перебит хребет крестьянству, и декларированные цели построения социализма и коммунизма, содержали ту антигуманистическую ориентацию, которая более свидетельствовала о сохранении традиционной для доиндустриальных обществ иерархии базовых ценностей, чем о действительной модернизации. Извращенным оказалось в нашем обществе и второе важнейшее отношение, определяющее развитие – отношение в обществе к реальному факту общественного расслоения. Как показал в упомянутой работе Т.Парсонс, последовательное накопление
эволюционных универсалий на этапе перехода от примитивных к переходным обществам включает обязательную культурную легитимизацию социальной стратификации. Без такой легитимизации обществу постоянно угрожают уравнительные тенденции и процессы, которые не только противоречат задачам модернизации, но и в конечном счете способны сокрушить даже сословность, никакого отношения к модернизации не имеющую. Крах российской государственности в 1917 году, архаизировавший общество, сопровождался однако выдвижением на общесоциальный уровень культурных ценностей глубочайшего прошлого. До сих пор основная масса населения не нашла в себе сил для признания культурной ценности торговли, в результате чего деятельность в этой сфере остается нравственно необеспеченный, постоянно вновь и вновь извращаемой. На общесоциальном уровне пока еще господствует распределительная экономика, а идеальный культурный образ народного хозяйства до 1985 г. сохранял черты крестьянского двора во главе с хозяином-патриархом. Массовое сознание постоянно давало себя успокаивать комфортным представлением о бесклассовом обществе, где все согласны трудиться «в общий котел» и передавать распределительные функции власти. При этом массовое сознание закрывало глаза на неизбежность возникновения групп, выполняющих роль неких распределяющих псевдосословий. Однако эти реальные агенты распределительной системы допускались лишь в той степени, пока не замечались массовым сознанием, т.е. опять-таки они не получили санкции общества. И сегодняшнее возмущение общества новыми псевдосословиями, их привилегиями амбивалентно. Остается надеяться, что уж на этот раз оно предпочтет признать необходимость социальной стратификации, отвечающей реальностям современных развитых обществ. Ключевым в этом процессе, естественно, является культурная легитимация предпринимателей, новых для нашего общества форм деятельности, утверждающих ценности свободы экономического творчества, самостоятельности и ответственности. Все это свидетельствует о том, что российское общество, согласившись на плюрализм как условие гласности и продвигаясь все далее к полноценной свободе слова, еще далеко от той толерантности к разнообразию ценностей, которая позволит укрепиться нормам демократического общежития в повседневной жизни. Дав возможность разнообразию проявить себя во всех сферах общества, тайному стать явным, шепоту – обратиться в крик, оно стоит перед опасностью превращения этого разнообразия в битву
монологов, где каждый лучше всех слышит именно себя самого и пытается утвердить свой монолог над всеми остальными. Вырвавшееся на просторы публичности ранее подавленное, скрытое ценностное разнообразие нашей жизни в этих условиях все еще грозит превратиться в поляризованный мир, где из-за релятивизации ценностей нарастает социальная напряженность, накапливается дисбаланс между ценностями, поддерживаемыми значительным большинством членов общества, и реальными социальными процессами, в нем разворачивающимися. Подобная ситуация чревата столкновением ценностей, их конфликтом.
3.2. Конфликт ценностей – проблема развития Конфликт ценностей, как показывает анализ социокультурной ситуации последних лет, – одна из ключевых проблем переходного периода. Позитивные возможности культурного разнообразия реализуют себя в условиях стабильного демократического общества, где давно уже установились «общие правила игры», консенсус относительно основных ценностей. Конфликт ценностей в переходных ситуациях, напротив, приобретает чаще всего негативный смысл прежде всего из-за отсутствия такого консенсуса. Ценностная многоголосица демократического общества «закована» в достаточно жесткую структуру законов, демократических правил и институтов, повседневно тщательно поддерживаемых в общественной жизни на всех ее уровнях. Именно поэтому она может превращаться в ресурс, используемый на благо общества. Такая структурированная многоголосица – дозированное многообразие – свободна лишь в добровольно принимаемых или навязываемых ей рамках стабильной экономической, политической и культурной жизни. В иных условиях начинают доминировать деструктивные свойства ценностного разнообразия, тем более опасные, что в условиях слабой структурированности общества сохраняется возможность выплескивания на верхние этажи общественной иерархии случайных элементов этого разнообразия. Отсюда угроза его превращения в значимый дестабилизирующий фактор, постоянно потрясающий общество, усиливающийся в условиях нелигитимности социальной стратификации, информированности классовых интересов, анархичности политической жизни, дезориентации управляющих структур. Все эти моменты присутствуют в нашем обществе. Тем самым конфликт ценностей означает для нас
возможность социальных потрясений, политической нестабильности, кризиса культурных оснований общества. Многое зависит от представления о естественности или искусственности модернизации как процесса общественного развития. С одной стороны, оценка модернизации как искусственного, навязанного, «насильного» развития постоянно сопровождает у нас процессы модернизации. Так происходит, начиная от Петра I, навязывавшего предпринимателям собственность, до нынешнего поколения потенциальных собственников, например, колхозников, которые пока не имеют условий для свободного труда, независимости и риска. Навязанная модернизация оборачивается прежде всего своей негативной стороной – извращением сложившихся структур и разрушением, деградацией. С другой стороны, где граница естественного и искусственного? В некотором смысле культура вообще есть нечто искусственное, противостоящее «естественной» природе, о чем было известно уже античным софистам. Модернизация вполне может представать как процесс, лишенный катастрофизма и апокалиптических ожиданий. Выход за рамки локальных деревенских миров сотен миллионов крестьян, включение в мировое хозяйство десятков развивающихся стран Азии, Латинской Америки, Африки давным-давно проблематизировали эту ситуацию. Долгий исторический путь пролег от того времени, когда человечество осознало потрясающее разнообразие культур и цивилизаций, до сегодняшнего дня, когда это разнообразие предстает уже не как момент симпатий или антипатий, этнографического интереса, эстетического любования, но как необходимость взаимной работы представителей различных культур над общими проблемами, как совместный труд на одних и тех же предприятиях, как оптимизация экономических и политических связей, наконец, как единая задача сохранения планеты в условиях нарастания глобальных проблем. В западной науке эта ситуация исследуется начиная со второй половины XIX века как проблема классической социологии и, в частности, разрабатываемой ею теории модернизации, осмысляющей трансформацию традиционных ценностей, структур, отношений в модернизированные, «современные». За прошлый и нынешний века она успела сложиться в развитое направление, включающее множество концепций, имеющих методологическое, теоретическое и прикладное значение. Проблемы модернизации разрабатывали такие крупнейшие ученые, как М.Вебер, Э.Дюркгейм, К.Маркс, Р.Парк, Ф.Теннис, Г.Беккер, М.Леви, Т.Парсонс,
У.Ростоу, Дж.Грегор, Р.Рэдфилд, С.Эйзенштадт, Д.Ношемейер, Г.Алмонд, А.Гершенкрон, Б.Мур и многие другие. В их концепциях накоплен огромный теоретический опыт анализа процессов перехода от традиционного к индустриальному обществу, выявлены различные возможности, возникающие на этом пути, общие закономерности и особенности, связанные со спецификой общества и страны, переживающей модернизацию. По крайней мере с конца 60-х гг. теория модернизации подвергается ожесточенной леворадикальной, в том числе марксистской и неомарксистской критике. Несмотря на это она в целом устояла. Концептуальное углубление теории модернизации, обогащение ее новым опытом, особенно успешной модернизации социальных институтов, политической культуры, социальных отношений, эволюция нравственности в сторону ценностей гражданского общества, правового государства, либеральных свобод способны придать новое дыхание идеям модернизации. Их противопоставление концепциям зависимого развития, слаборазвитости, миросистемному подходу не абсолютное. Сама идея модернизации, т.е. постоянного обновления, не прерываемой ни на миг динамики традиций и инноваций, где преобладает ценностная ориентация на продвижение по пути качественного совершенствования, на реформы и прогрессивное развитие отнюдь не утеряла своей привлекательности. Либеральные ценности, которыми вдохновляется теория модернизации, по-прежнему живы, как и направленность обществ на ненасильственные изменения эволюционного типа. О том, что теория модернизации претендует на роль общей теории общественного развития, свидетельствует ее применимость для обществ различного типа, начиная от анализа трансформаций доиндустриальных структур в Англии, до многочисленных объяснений катастрофического пути к политической модернизации в Германии и Италии и бесчисленных исследований, посвященных модернизации стран «третьего мира». Обращение отечественной общественной науки к концепциям модернизации при изучении процессов социальных и культурных изменений в России до последнего времени либо не осуществлялось, либо осуществлялось в неявной форме. Вместе с тем имеет несомненный смысл обсудить возможности этой теории для анализа современных проблем России, в том числе конфликта ценностей. Это представляется тем более уместным, что основной пласт зарубежной исторической и политологической литературы прямо или косвенно связан с использованием идей теории модернизации. Историки,
изучающие роль государства, бюрократии, взаимоотношения различных ведомств и институтов, сословий, социальных слоев в России главное внимание уделяют проблеме реформ, попыткам модернизации – экономической, социальной, политической, обсуждению возможностей правящей элиты в России XIX – начала XX вв. избежать революции путем направленной гибкой системы постепенных изменений. В работах зарубежных специалистов большое внимание уделено судьбе самодержавия, проанализированы значительные пласты исторических документов, материалов, позволяющие сделать множество ценных выводов и наблюдений, сформировать ряд общих взглядов на недостатки управления, способствовавшие взрыву 1917 г., на историческую вину бюрократии, дворянства, интеллигенции, тех или иных политических деятелей, не сумевших достаточно гибко и маневренно обойти многочисленные рифы, ставшие на пути модернизации в России[31]. Вместе с тем эти ценные работы остаются в большинстве своем все-таки взглядом извне. В целом им недостает опоры на «большую теорию», ибо при всей значимости используемых этими учеными концепций модернизации последние методологически и понятийно не были достаточно заглублены в специфику российских проблем. Европейский взгляд на проблемы отечественного общественного развития поневоле расставляет иные акценты, выделяет подчас не самое главное. И оценка эта обусловлена вовсе не стремлением отгородиться от мировой науки, созданных в ее рамках социологических и политологических теорий, но скорее необходимостью дальнейшего углубления научного знания, учитывающего оригинальный опыт различного типа обществ, в том числе российского. Недостаточны для объяснения отечественнных проблем не только «западнические» работы, в которых можно при желании обнаружить специфически европоцентристскую интерпретацию проблем модернизации. Недостаточны для понимания проблем модернизации России и те многочисленные конкретно-страновые разработки теории модернизации, которые возникли как вывод из изучения конкретных регионов и обществ «третьего мира». Собственно, можно сказать и иначе. И теоретические работы, возникшие как обобщение социального развития западных обществ, и востоковедческие работы, осмысляющие процессы
«догоняющего» развития в «третьем мире», до известного предела чрезвычайно важны и полезны. Их значение прежде всего в том, что они позволяют осмыслить антропологические параметры общественного развития, его общие закономерности, те характеристики, которые могут быть определены как универсалии. Большой смысл этих работ также в том, что они дают возможность обсудить цивилизационные, стадиально-типологические черты, объединяющие общества в группы со сходным набором характеристик. Однако эти работы не могут ответить на те вопросы, что связаны с культурно-самобытными, уникальными чертами российского общества. В то же время вне осмысления этих черт анализ проблем общественного развития России всегда будет представать переводом «чужого» текста, может быть интересным, ярким, но всегда неточным. Поэтому освоение концептуального содержания, накопленного в работах по теории модернизации, не освобождает нас от попыток углубления методологического инструментария, основанного на изучении специфики российского общества, от выявления тех ключевых проблем, которые показывают свою первостепенность именно в связи с изучением общественного развития России. Возможно, в конечном итоге к теориям, разрабатываемым западной социальной наукой, будут добавлены лишь некоторые оттенки, создана лишь некая новая версия теории модернизации (если мы, конечно, не поставим себе задачи, требующие отказа от научного способа осмысления мира). Эта новая версия теории модернизации должна будет обладать лишь тем дополнительным качеством, которое связано с направленностью на собственный объект – российское общество.
3.3. Социокультурный подход к изучению конфликта ценностей Важное достоинство теорий модернизации заключается в том, что они направлены на поиск внутренних движущих сил модернизации в конкретном обществе. Эта задача во всей ее полноте стоит перед исследованием проблем модернизации в России. На фоне драматического опыта развития страны эта проблема приобретает здесь особенно сложный характер. Важнейшую движущую силу модернизаций в России, как и в других странах, следует искать в постоянно возникающих в обществе противоречиях, конфликтах, в том числе конфликте ценностей.
Тема конфликта ценностей до последнего времени не была интересна отечественному обществознанию. Теоретическое содержание этой проблемы мистифицировалось и в таком виде выносилось вовне, во «враждебный» капиталистический мир. Собственно теория классовой борьбы, антагонистических противоречий, противостоящих друг другу мировых систем и была той иллюзорной формой представлений о конфликт», частным случаем которой был и конфликт ценностей. Кроме того, теория классовой борьбы собственно не оставляла места изучению конфликта ценностей, так как апеллировала к понятию интереса, чем вульгаризировала проблему, низводя проблему ценностей к грубо-утилитарным ссылкам на выгоду, чисто материальный экономический интерес. Отказ от подобного упрощенного подхода, естественно, не означает автоматического избавления от мистифицирования проблемы, хотя и на другой лад. Остается опасность прямого приложения к анализу конфликта ценностей в России западных понятий социологической науки, сложившихся в условиях общества, не знающего той формы этого конфликта, которая сложилась у нас (не случаен, например, структурный функционализм; в частности, Т.Парсонс а также М.Вебер, В.Петерс Э.Дюркгейм считали, что социальная система складывается на базе общих для всех ее членов ценностей и норм). Кроме того, применяя понятия, возникшие на базе изучения социальных явлений общества, находящегося на более поздней стадии развития, к обществу, где подобных явлений еще попросту нет, мы несомненно «вчитываем» в эти процессы содержание, которое там отсутствует. Объясняем, например, доэкономические отношения через категории развитых товарно-денежных отношений; с помощью понятий, сложившихся в элитарной культуре, пытаемся объяснить массовые процессы, хотя обыденное сознание пользуется совсем другими понятиями и не знает элитарных интерпретаций и т.д. К счастью, при осмыслении проблемы конфликта ценностей имеется возможность опереться на отечественную философскую традицию, которая всегда считала эту проблему ключевой для общественного развития России и выработала понятие, «схватывающее» отечественную специфику. Речь идет об интерпретациях раскола в русской культуре, отмечаемого многими мыслителями. Раскол можно рассматривать как особую специфическую форму конфликта. Масштабы и значение раскола таковы, что его существование ставит под вопрос
западное представление о наличии в обществе единой системы ценностей, лежащих в основе социальной системы. Тема расколов в российском обществе, поляризации культур, разрыва между основными субкультурами общества звучала у И.Киреевского, Бердяева, Федотова; об этом писали В.О.Ключевский, Г.Фроловский, А.Белый и другие. Поляризация ценностей, вплоть до взаимного непонимания, разрыва коммуникаций внутри общества, образования в нем «двух цивилизаций» отмечалась А.М.Панченко, Г.М.Прохоровым, Б.А.Успенским, Н.С.Эйдельманом, А.С.Ахиезером, Ю.С.Пивоваровым. Этот фундаментальный факт должен быть положен в основание анализа проблем общественного развития страны, что в результате приводит к совершенно своеобразной теоретической интерпретации особенностей ее исторической динамики. Конфликт ценностей как одно из проявлений раскола может быть описан как некий эмпирический факт. Часто такие описания касаются того исторического момента развития общества, который связан с петровскими реформами[32]. Вместе с тем раскол может быть представлен как понятие теоретическое, как некоторое методологическое основание особого подхода, формирующегося на опыте осмысления специфики общества в России. Речь идет о складывающимся у нас в стране социокультурном подходе к обществу, к общественным процессам, к их движущим силам. Этот подход в своей основе дает объяснение процессов в обществе, которое может рассматриваться как методологическое основание для анализа процессов любого уровня конкретности. Раскол, согласно этой теории, есть «патологическое состояние социальной системы, большого общества, характеризуемое острым застойным противоречием между культурой и социальными отношениями, распадом всеобщности, культурного основания общественного воспроизводства». Он выступает как «постоянно угрожающий интеграции общества конфликт по крайней мере двух субкультур», которые «вызывают друг у друга дискомфортное состояние и характеризуется отсутствием в обществе массового нравственного идеала, который мог бы реально обеспечить
нравственное и организационное единство»[33]. Господство раскола – следствие недостаточной способности общества обеспечить единство культуры и социальных отношений, необходимое для эффективного общественного воспроизводства. В свою очередь, механизм их согласования связан со способностью общества осваивать новшества, перерабатывать их, отвечая таким образом на постоянный «вызов», постоянные возмущения, идущие из среды. Недостаточная способность осваивать новшества может оторвать одну часть общества от другой, нарушив коммуникацию между ними. А.С.Хомяков писал, что «общее просвещение, проявляемое только в постоянном круговращении мысли (подобно кровообращению в человеческом теле), становится невозможным при раздвоении в мысленном строении общества». Неадекватные интерпретации новой информации приводят к возникновению нефункциональных социальных отношений, институтов (например, если царь интерпретируется как батюшка, то перед нами случай неадекватной экстраполяции на государственность семейных отношений, результатом чего не может не быть извращение государства как социального института, базирующегося на иллюзорной основе). Постепенно развиваясь как историческое явление, некая «болезнь» общества, за века своего существования расколу удалось овладеть социальным организмом до всей его глубины, пронизать все поры общества. Многие мучительные колебания, «пульсация» общества, метания из одной крайности в другую, «замкнутые круги», бросающие Россию от попыток ускорения модернизации в глубокий застой и вновь по тому же пути, попытки искоренить зло, отсечь «виновную» часть общества связаны с неспособностью избавиться от раскола. Общество вынуждено приспосабливаться к нему, что вызывает рост дезорганизации, формирование неэффективных социальных отношений и типов организаций (например индустриализацию, проводимую путем активизации традиционных элементов культуры, причем преодоление подобного положения возможно лишь при условии гармонизации взаимосвязи между культурой и реальностями социальной жизни, т.е. достижения соответствия между символическими культурными интерпретациями и организацией, между ценностями и структурами, формами, в которых находят реальное воплощение идеальные культурные проекты. Иными словами, должно быть достигнуто соответствие между сложным современным индустриальным обществом с множеством
специализированных ролей, мощной дифференциацией и ментальными структурами. Пока общественное сознание остается подвержено мифам, фобиям, иррациональным всплескам, ценностям, идущим из архаических глубин истории, вся организация современного индустриального, должного опираться на разум и науку общества остается под угрозой. Древние ценности должны получать современные интерпретации, необходимые для осуществления большого уровня единства, глубинного консенсуса, более ясного осознания рациональных основ социальной жизни. В ином случае существование общества обеспечивается колоссальными напряжениями всего населения, массовыми жертвами, усилиями отдельных групп, привлечением дополнительных ресурсов то ли в виде выкачивания из страны ее богатства и их растранжиривания, то ли помощи извне, импорта не нами созданной технологии, то ли террором, после которого следует крайнее изнеможение всех социальных и нравственных сил. Именно раскол, глубокое расхождение в понимании самой природы общества и социального действия, роли и места человека в мире, личности в обществе, целей общественного развития смог породить удивительный тип советского витка модернизации, объединивший модернизаторскую энергию бюрократии с социальной мощью крестьянской утопии. Социокультурный подход, складывающийся сейчас в отечественной философии, нацелен на изучение социокультурной динамики в российском обществе. В рамках этого подхода осмысливается специфика конфликта ценностей в России, его роль в российской модернизации. Рассматривая ценностное содержание культуры как феномен духовной жизни, такой подход требует соотнесения ценностей с реальным общественным субъектом на всех его основных уровнях: общесоциальном, групповом и личностном. Краеугольное требование социокультурного подхода – сосредоточение на анализе массовых социальных процессов как основном объекте изучения, понимаемом как источник и почва всех видов групповых и личностных форм социальных процессов. Этот подход требует безусловного помещения рассматриваемых тенденций в целостные контексты, т.е. постоянного учета их места в массовых социальных процессах, их общераспространенности либо уникальности. Вместе с тем этот подход не обязывает приводить количественные характеристики, статистические данные и т.д. и в этом смысле отличается от социологического. Социокультурный подход ориентирован прежде всего на качественный анализ. Его задача – сформировать идеальный образ, обобщенный
«портрет» социального явления, однако, естественно, сохраняя верность всех количественных масштабов и пропорций. Кроме того социокультурный подход требует помещения изучаемого явления во временную шкалу, однако он отличается от исторического тем, что не достигает конкретности исторических описаний. Важнейшее требование такого подхода – постоянное выстраивание иерархии уровней, направленных на достижение конкретности получаемых результатов, их доведения до уровня характеристик реального субъекта социального действия. В отличие от культурологического анализа такой подход нацелен на осмысление противоречия между культурой и социальными отношениями, т.е. изучает не собственно характеристики того или иного типа сознания, но момент столкновения последнего с социальной реальностью, воплощения культурного проекта, иными словами, переход человеческих представлений в реальную организацию жизни общества. В отличие от политологии социокультурный подход меньше направлен на изучение действий политических лидеров, элит, меньше интересуется политическими решениями и не склонен преувеличивать возможности властвующего субъекта. Он отрицает способность политических решений определяющим образом влиять на социальные процессы. Политическая же культура, с позиций этого подхода, – это прежде всего массовые представления о власти, ее субъектах, нормах, нравах и обычаях, определяющих политическое поведение.
3.4. Ценностное содержание динамики российского общества На основании изложенных методологических предпосылок появляется возможность интерпретации динамики ценностей, обусловливающей массовые социальные процессы. Согласно этому подходу, традиционные ценности, в 1917 году «выплеснувшиеся» вверх из-за крушения российской государственности, удерживались на общесоциальном уровне до 1985 года, несмотря на неадекватность современным условиям. Социокультурный подход позволяет видеть в этом результат инерции прошлого культурного опыта, глубокую стадиально-типологическую обусловленность общественной динамики. Согласно подобной интерпретации Россия принадлежит к промежуточному, переходному типу общества, где значительные пласты традиционной, статического типа культуры по крайней мере со времен петровских реформ сталкивались с
ростками динамичной ранне-индустриальной. Потревоженный, разрушенный в 1861 г. традиционализм нес ценности сохранения устойчивости, защищенности, комфортности жизни в рамках локальных миров – крестьянских натуральных и полунатуральных хозяйств и содержал древние ориентации на адаптацию к внешней среде – природной и социальной, упования на неограниченную сакральную монархическую власть. Традиционалистский ценностный комплекс пронизывался и постепенно размывался также идущим из народной почвы утилитаризмом. Этот процесс был и остается нацеленным в будущее, он в потенции содержал возможность модернизации в ее органическом варианте, т.е. модернизации как процесса развития. Ранний неразвитый утилитаризм включал постоянно возрастающие требования, обращенные к государству как источнику потребительских благ и ресурсов, но обеспечивал также и развитие производительных форм деятельности, включал в культуру ценности товарно-денежных отношений. Внутренние импульсы к развитию, обеспечиваемые идущим из народной почвы утилитаризмом, однако, не были достаточны для целей модернизации, особенно ускоренной. После 1917 года она приобрела уродливые формы, фактически обратилась против самих модернизирующих слоев, против ростков буржуазной культуры, товарно-денежных отношений, высших форм научного и художественного творчества и оказалась во власти традиционалистских ценностей, активизировавшихся в обществе в результате усиленных и неоднократных попыток их искоренить. Это вызвало взаиморазрушение как конструктивных инноваций в культуре, образе жизни, организации производства, так и сложившихся традиционных социально-культурных укладов, форм производства и образов жизни. Социальный катаклизм 1917 года произошел на этапе, когда особенно обострились противоречия, вызванные быстрыми и неравномерными сдвигами в хозяйственных укладах и социально-экономических формах жизни. Упадок высших слоев традиционного общества в России, слабость буржуазии, ее подчиненность государству обескровили общество. Оборотная сторона его недостаточной модернизированности проявилась в конфликтности и одновременна слабости интеллигенции, выдвинувшей конкурирующие и подчас исключающие друг друга идейные, мировоззренческие, социально-политические концепции, где, однако, господствовала идея радикальных социальных изменений. Недостаточность предпринимательства, обмена, экономической инициативы в
обществе, неспособность правящей элиты последовательно провести в жизнь требования модернизации сильно усложнили ситуацию[34]. Не смогли гармонизировать эти процессы и новые социальные слои, выступившие на арену политической жизни после 1917 года. Развязанная, освобожденная от пресса государственности социальная энергия миллионов не «канализировалась» в сторону поддержания и развития ценностей самостоятельной, саморазвивающейся, ответственной личности. Модернизация развертывалась согласно логике, продуцируемой массовыми ценностями, сформировавшимися к этому периоду. Типичный носитель массовых ценностей к тому времени сохранил часть черт, идущих от традиционализма, хотя и частично разрушенного послереформенными процессами XIX – начала XX в., и часть черт почвенного утилитаризма, недостаточных для утверждения в стране господства рыночных отношений. В условиях «обесструктуривания» общества (бурный миграционный процесс вынес из села в город за 1917–1982 гг. 142,6 млн. человек!)[35] подобное сочетание ценностей способствовало быстрому усвоению новых форм жизни, т.е. достигнутого к тому времени уровня производства, внешних элементов городского образа жизни. Это свидетельствовало о значительной способности миллионов к творческой культурной работе по освоению новых для них культурных образцов. Вместе с тем этот массовый процесс освоения культуры имел определенные рамки, за которые могли выйти только отдельные выдающиеся люди. В целом же он препятствовал развитию более сложных форм труда, деятельности, творчества. Более того, в результате конфликтного взаимодействия, «сшибки» ценностей, произошло упрощение культуры и социальных отношений, усилилась враждебность к носителям более сложных форм труда. Иными словами, освоение на массовом уровне отдельных элементов индустриальной культуры и городского образа жизни сопровождалось уничтожением модернизированных выше этого уровня культурных
форм. Высшей целью модернизации, как известно, стало сильное государство, что в общем согласовывалось с давно утвердившейся в России традицией. Однако дело не ограничивается имперскими амбициями и соображениями политиков. Главной причиной выдвижения сильного государства как высшей ценности модернизации в России был социально-психологический механизм отождествления личности с государством как воплощением собственной силы этой личности. В конечном итоге утверждение государственной собственности на все богатства страны, ее отождествление с общенародной было результатом отождествления всех и каждого с государством, дававшего иллюзию могущества и защищенности человека, растворившегося в соборном целом. Отчасти это, видимо, было компенсацией, заменой потерянного чувства разрушенной традиционной общности, утраты естественной связи, соединявшей людей в их локальных мирах. Подобная замена оказалась необходимой из-за недостаточной готовности личности к существованию вне этих связей и была, несомненно, свидетельством незрелости, невыработанности личности, ее страха перед автономным существованием в новых условиях модернизирующегося общества. Согласно развиваемым нами представлениям, конфликт ценностей в нашем обществе – выражение его промежуточного, переходного состояния: между статичным и динамичным социальным воспроизводством, между архаичной личностью и личностью, склонной к прогрессу, развитию, к поддержке системы ценностей, утвердившей себя в модернизированных обществах. Это приводит к выводу о принадлежности России к особому типу промежуточной цивилизации, что говорит о качественном своеобразии, самобытности социального целого, недостаточности сведения особенности развивающихся здесь процессов к некоторому из описанных случаев модернизации, например, «частичной». Своеобразие промежуточной цивилизации обусловлено типами личностной культуры и субкультур, сложившихся в обществе, соотношением массовых постиндустриальных, развитых индустриальных и раннеиндустриальных, а то и просто архаичных ценностей, которые до сих пор бросали российское общество в путь по «замкнутому кругу» и сейчас еще угрожают срывом прогрессивных реформ, препятствуя переходу России к интенсивному динамичному общественному воспроизводству. Таким образом, модернизация в России имеет глубокую специфику, связанную, в частности, с тем, что общество
«раскололось», поляризовалось, а ценностное разнообразие обратилось не только в конфликт ценностей, но в конфликтное столкновение цивилизационных типов. Эти процессы глубоко раскололи личность и, фактически, основной проблемой модернизации является «расколотый» человек современного российского общества. Человек, который до сих пор хотел жить в современном обществе, исповедуя архаичные ценности, сочетая ответственность на уровне своего рабочего места и собственной квартиры с желанием пользоваться новейшей техникой и технологией. Этот человек по-прежнему сомневается в ценности личности и уповает на силу архаичного, почти племенного «Мы», на силу авторитета. Вместе с тем, если традиционных общностей в их первозданном виде уже давно не существует, то сейчас рухнул последний оплот традиционалистского авторитарного сознания – сильное авторитарное государство, воплощение силы этой личности. Поэтому, если тема конфликта культур, столкновения ценностей – это тема встречи архаичной личности с современной, тема противоречивости господствующего до последних лет в России типа личности, застрявшей на пороге в современность, то сейчас мы попадаем в новую ситуацию, ситуацию решительного сдвига в сторону ценностей модернизированных обществ. Возможности достижения более органичной модернизации, а следовательно и более безболезненного развития – в способности человека сегодня гармонизировать свой внутренний мир, продвинуться вместе с обществом по пути к «нормальной» культуре, к ее основным ценностям.
РАЗДЕЛ II. ЧТО С НАМИ ПРОИСХОДИТ? ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КРИЗИС
В первом разделе показано, что российское общество, рассматриваемое в цивилизационном контексте, находится на путях модернизации, переходя от традиционного общества к современному, рыночному и демократическому. Суть перехода состоит, во-первых, в формировании рыночных отношений, понимаемых в широком смысле: не только экономических, но социальных и политических. Они включают становление индивида, обладающего экономической и политической самостоятельностью по отношению к государству, т.е. члена гражданского общества. Это предполагает, во-вторых, формирование правового государства, ограниченного в своих действиях по отношению к индивидам демократическими законами, нормами общественного договора между самими индивидами. Это сложный переход, занимающий длительное время. По своей природе он является социокультурным: захватывает всю сферу социальности, понимаемой как совокупность экономических, социально-групповых, политических, идеологических и иных отношений между людьми в их разнообразной деятельности, а также культуру как совокупность способов и результатов их деятельности. Такого рода переход означает кризис прежней социальности и вызревание новых отношений между индивидами. Нередко он оказывается сопряжен с кризисом культуры и тогда протекает весьма драматично, затрагивает сами основы бытия этносов. В современной России наблюдается весь спектр кризисных процессов: социальных, культурных, этнических. Сплетаясь, они образуют патологический социокультурный кризис, который рождает грозный феномен катастрофы. В предыдущей главе дана характеристика одного из вариантов социокультурного подхода, согласно которому в России
сложилась промежуточная цивилизация, осложненная расколом. «Раскол не позволяет обществу как перейти к либеральной цивилизации, так и вернуться к традиционной. Отсюда постоянные мучительные пароксизмы общества...», шараханья от ценностей одной цивилизации к ценностям другой[36]. За кажущейся хаотичностью метаний обнаруживается определенная логика, принимающая форму глобальных инверсионных циклов истории российского общества. Эти циклы держат под постоянной угрозой краха интеграцию общества, государственность страны. Однако раскол культуры – не единственное основание такой угрозы, не универсальный ключ к тайнам российской истории. Существуют и иные, социально-исторические основания. Как уже отмечено во введении, по В.О.Ключевскому, более тысячи лет история России была историей колонизации, обжигания и собирания обширных территорий славянами, преимущественно русскими. Но от достигнутого Россией величия международного положения отставал, «не шел в уровень» внутренний рост русского и других ее народов: «Мы еще не начинали жить в полную меру своих народных сил, чувствуемых, но еще не вполне развернувшихся»[37]. Во второй половине XIX века начался активный рост внутренних сил российского народа. Но в XX веке он вновь был сдержан имперскими амбициями властей: царских, ввязавшихся в две непосильные войны (с Японией и Германией), а затем и большевистских, осуществивших ради сохранения своей диктатуры тотальное отчуждение человека. Последнее длительное время было далеко не очевидным, но вышло наружу по мере развития кризиса отчужденного бытия и соответствовавших ему форм сознания.
Глава 4. Кризис отчужденного бытия
Сформировавшаяся после 1917 г. общественная система была достаточно сложной, выполняла различные функции и имела многоуровневую структуру. На определенных ее уровнях произошли вытеснения, замещения одних элементов другими, подчас противоположными по значению. Эти уровни «являются» наблюдателю в
превращенной форме. Но это не просто форма, а особого рода детерминизмы – превращенности действия[38]. За три четверти века сформировалось так много подобных превращений, что советское общество в целом стало напоминать своего рода черный ящик, содержание которого не поддавалось наблюдению ни извне, ни изнутри.
4.1. Превращенная реальность Гласность, утвердившаяся в СССР во второй половине 80-х годов, смыла пропагандистские румяна и другую идеологическую косметику с фасада советского общества, обнажила его поведенческие изъяны, за которыми стали проступать и сущностные его пороки. Советские люди (и не только они) были потрясены обнародованными фактами, переворачивавшими сложившиеся представления о своей стране, все мировосприятие. «Все во имя человека, ради его блага» – эта и подобные ей установки «реального социализма» были впечатаны в сознание миллионов советских людей. Они утверждались не только благодаря повседневной деятельности всеохватывающей пропагандистской машины. За ними стояли определенные реальности: почти гарантированное рабочее место (вспомним многочисленные объявления «требуются..., требуются...», поражавшие наблюдателей из стран рыночной экономики) и зарплата, позволяющая быть сытым, обутым и одетым; бесплатное образование и медицинское обслуживание, а для многих горожан – и жилье. Разве это не забота о человеке, внушающая гордость за социалистическую Отчизну? Каково же было после этого узнать, что правоохранительные органы, призванные охранять главное право человека – право на жизнь, заместились карательными органами, вплоть до 1953 года осуществлявшими под руководством партийно-государственной номенклатуры массовое истребление сограждан. Жертвы красного террора и гражданской войны, продразверсток и коллективизации, процессов над «врагами народа» и внепроцессуальных самосудов «троек» и иных «чрезвычаек», репрессии целых народов по подозрению в пособничестве внешнему врагу – это не десятки случайных ошибок, а миллионы преднамеренно погубленных и десятки миллионов исковерканных человеческих жизней. Все до единого
процессы над «врагами народа» были фальсифицированы, а действительными, без кавычек, врагами нашего народа оказались прежде высокочтимые, высокостоящие организаторы этих процессов. Гуманные декларации оказались иллюзорными декорациями, а мифы об оборотнях стали реальностью. Такой же была судьба красивых слов «Человек проходит как хозяин необъятной родины своей» из популярной песни, которую по праздникам люди пели в семейном кругу, а не только на демонстрациях. Да, оборудование и средства труда на государственных предприятиях не только были объявлены, но считались многими действительно общественной, общенародной собственностью, высшим достижением социального прогресса, преддверием коммунистического обобществления. Экономисты обосновывали «хозяйственные отношения» между работниками этих предприятий, а социологи демонстрировали возрастающую роль интереса работников к содержанию труда. И это было так в самой действительности. Но на более глубоких ее уровнях шли иные процессы. Формировалось отчуждение человека от труда и его результатов. До нецивилизованного уровня опустилась доля заработной платы в создаваемой работником прибыли. Распространилось отношение к средствам труда как к ничейным, которые «плохо лежат» и поэтому их можно унести домой; другой аргумент «несунов»: «Если я хозяин иди сохозяин на производстве, то почему бы не взять то, что мне нужно». За впечатляющими цифрами о росте затрат на мероприятия по технике безопасности скрывался еще больший рост производственного травматизма и профессиональных заболеваний, высокая катастрофичность, аварийность и антиэкологичность всего производства в стране. Челябинская и чернобыльская катастрофы атомных установок, гибель устья Волги и усыхание Арала, столкновения и другие аварии поездов, пароходов, автомобилей и самолетов, взрывы горючих веществ, случайные и сознательные сбросы вредных отходов в атмосферу, реки и озера, пожары и просто разрушения библиотек, музеев и других хранилищ духовных ценностей нашего народа и всего человечества – все это давно стало нашей повседневностью. Как и хроническая авария всего нашего сельского хозяйства – нехватка продовольствия при ежегодных массовых потерях его в поле, на дороге и «базах хранения», ставших, по сути, базами утраты – грубыми символами нашей превращенной реальности.
Конституция (Основной закон) СССР декларировала советское общество как общество подлинной демократии, где вся власть принадлежит народу, который осуществляет свою власть через Советы народных депутатов как политическую основу СССР. При этом КПСС определялась как руководящая и направляющая сила советского общества, ядро его политической системы, государственных и общественных организаций (статья 6). По сути лишь последнее положение соответствовало действительности. Формально Верховный Совет СССР был высшим органом государственной власти в стране. Но фактически он стал инструментом проведения в жизнь решений Политбюро ЦК КПСС. Так же обстояло дело и в республиках, а особенно приниженным было положение Верховного Совета РСФСР. Стремясь держать все процессы в обществе под своим непосредственным контролем, партийные органы в центре и на местах подменяли советские и хозяйственные органы. Исполнительский аппарат партийных органов, особенно центральный, чрезвычайно разросся, а методы его работы оказались засекречены не только от населения, но и от большинства членов партии, кроме работников партаппарата. Под его непосредственным воздействием в Советах исполнительский аппарат фактически командовал законодательными органами; в сознании населения Исполком воспринимался как более высокая власть, нежели Совет (не случайно на вывесках у входа крупными буквами писалось слово «ИСПОЛКОМ», а мелкими «совета депутатов трудящихся»). Следственный аппарат слился с прокурорским надзором и диктовал решения судьям. Извращены оказались и нормы права: дозволено лишь то, что разрешено законом; признание обвиняемого признавалось как достаточное доказательство его вины. Словом, во всех структурах власти их форма демонстрировала нормальное, исконное их предназначение, содержание же их деятельности и складывавшихся внутри их отношений оказывалось превращенным – замещенным или перевернутым. Рядовые члены общества, превозносимые в речах и на плакатах, на деле оказались отчуждены от участия в политическом и хозяйственном управлении. Вместо того, чтобы возноситься до положения субъектов управления, они довольствовались ролью пассивных объектов управленческих процессов. Подытоживая, можно заключить, что в 70–80-е годы советское общество представало взору наблюдателей как тотально превращенное. Одни принимали эту видимость за подлинность, другие
констатировали его закрытость, лишь немногие догадывались, из чего же состоит этот социальный черный ящик. Перестройка стимулировала процессы самопознания населением подлинного содержания своего бытия и сознания. Просветление черного ящика стало важнейшей задачей социальных наук в стране.
4.2. Тотальное отчуждение Социальное исследование стремится проникать в глубины общественных событий и процессов, в их сущность, не утрачивая при этом их специфики. Своеобразие исторических субъектов заключается в их двуединой, субъект-объектной природе. Если же при объяснении происходящих в них процессов ограничиваться лишь причинами чисто объективного характера, без учета субъективных факторов, то это объяснение окажется за пределами специфической сущности исторических процессов. Постигать их специфическую сущность – значит раскрывать противоречия в этой сущности, или сущностные противоречия. Особенность этого типа противоречий состоит в неуничтожимости ни одной из сторон такого противоречия, в несводимости их друг к другу. Такие противоречия Кант величал антиномиями. Следовательно, сущностные противоречия, по природе своей, антиномичны. Как свидетельствует история мировой философской мысли, одно из фундаментальных противоречий человеческой истории состоит в противоречии между отчуждением и свободой человека. Отчуждение есть такая общественная, социокультурная связь между индивидами, которая вышла из-под их контроля и стала самостоятельной, господствующей над ними силой. Это инобытие свободы, ее противоположность. Свобода – высшая ценность человеческой жизни; она воплощает такие общественные, социокультурные отношения между индивидами, которые открывают простор способностям индивидов преодолевать отчужденные формы их деятельности и иные ограниченности существующей культуры и социальных отношений, творить новое, участвовать в инновационных процессах. Своей деятельностью человек стремится преодолеть ограничивающее его отчуждение и достичь более высокого уровня свободы. При этом он нередко сам порождает отчуждение своих отношений или же попадает под влияние существующих форм
отчуждения. Тем не менее, в целом в истории наблюдается прогресс в движении человека от отчуждения к свободе, поскольку степени свободы человека растут быстрее: как в сфере социальных отношений, при переходе от одной формы общества к другой, более прогрессивной, так и в сфере культуры, при переходе от одного типа культуры к другому. Но это не непрерывный и не линейный прогресс. В нем немало перерывов и различных циклов, включающих возвратные процессы, лавинообразные нарастания отчуждения, подминающие под себя свободу. Один из таких сложных витков истории и выпал на долю нашего многострадального народа после 1917 г. Изначально Октябрьская революция была нацелена на небывалый, скачкообразный рост свободы большинства населения – трудящихся России. Но очень скоро этот девятый вал свободы покатился в обратном направлении: большевистские методы осуществления диктатуры пролетариата и естественное сопротивление свергнутых классов утвердили новое, поистине всеобъемлющее, тотальное отчуждение человека. Отчуждение заменило свободу, вытеснив ее в область формы. Сначала отчуждение возникало как превращенная форма свободы, а затем стало сутью отношений, свобода же – превращенной их формой. Произошло двойное превращение, распознать которое весьма непросто. Анализ исторического опыта СССР позволяет выделить семь уровней отчуждения, последовательно возникавших, наслаивавшихся друг на друга и наконец замкнувшихся в тотальный комплекс. Исходным стало отчуждение подавляющего большинства населения от участия в управлении страной, от власти. В условиях централизованной политической и хозяйственной системы возник новый, специфический слой бюрократии, получивший впоследствии внешне безобидное, как бы специфически научное название – «номенклатура». Он составил не весь управленческий персонал, не всю бюрократию, а только ту ее часть, которая заняла ключевые посты в партийном, государственном и хозяйственном аппарате. Ее, по сути дела, не выбирали, да и не выбирают снизу, а назначают сверху – единолично или узким кругом лиц. Именно она породила волю центра, оставаясь неподотчетной массам. И в ней было сосредоточено ядро административно-командной системы. Номенклатура – не иерархическая пирамида, а корпоративно организованная социальная общность. Она включает представителей различных классов, предполагает разнонаправленные перемещения ее членов в рамках определенных должностей, имеет
четко фиксируемые ценности и «правила игры». Кстати, их нарушение жестоко карается. Напротив, следование им ощутимо поощряется – морально и материально. Разумеется, внутри номенклатуры с течением времени возникают свои сферы влияния, силы давления и поддержки. Как известно, Ленин призывал к борьбе с советской бюрократией традиционного, чиновничьего типа. Однако бюрократия росла, а при Сталине ее часть даже приобрела новое качество, сложилась в новый тип – «сановную» номенклатуру. Возникновение «нового слоя» камуфлировалось разрастанием чиновничьей российской бюрократии, высмеянной еще Салтыковым-Щедриным. Огонь критики сосредоточился на ней, оставляя в тени подлинных властителей, ставших субъектом управления в стране, где была уничтожена частная собственность на основные средства производства. Вот тогда-то и произошло отчуждение населения от власти. Оно обеспечивалось двойным запасом прочности: на первом уровне, отсекая от себя народ, действовали чиновники из «аппарата»; на втором, отфильтровывая самих чиновников, функционировала номенклатурная бюрократия. Она прилагала все усилия, чтобы сохранить и упрочить монопольное владение ключевыми должностями в структуре власти, отделявшими ее от остального населения. При этом активно укреплялась однопартийная политическая система, не менявшаяся со времен гражданской войны, военного коммунизма, и обстановка возрастающего доминирования производителей над потребителями. Отчуждение народа от власти долго не просуществовало бы, не будь создан второй уровень – отчуждение работающих за зарплату от результатов своего труда. Он тоже был с двойным запасом прочности. Прежде всего его введению способствовали директивно устанавливаемые цены («цены трестов») на большинство товаров – как правило, некоммерчески низкие. Власть, устанавливающая такие цены, превращалась в глазах простых людей в некую сверхсилу, окруженную ореолом защиты интересов бедных. Но в действительности, как уже в 1926 г. показал научный анализ[39], некоммерчески низкие цены служили причиной хронического дефицита, от которого больше всего выигрывали те, кто ближе стоял к источникам перераспределения материальных ценностей. Причем речь идет не только о спекулянтах, но и о номенклатурной
бюрократии, обеспечившей себе через систему спецраспределителей беспрепятственный доступ к любым товарам. Напротив, большая часть работающих за зарплату и члены их семей вынуждены были выстаивать длинные очереди в магазинах или переплачивать за предметы первой необходимости на рынках. Иными словами, директивное отчуждение цен от стоимости товаров обернулось отчуждением от товаров большинства работающих за зарплату. Неестественно низким ценам соответствовала произвольно навязанная сверху мизерная заработная плата подавляющего большинства трудящихся. Разумеется, ее размер был фиксирован не однозначно, а в виде «вилки», создававшей видимость дифференциации, оплаты по труду. Но в тенденции она лишь немного поднималась над прожиточным минимумом, который и составлял основу уравнительности в заработке. Эта уравнительность опять-таки декларировалась как проявление заботы о народе, хотя на деле труд становился все менее оплачиваемым и, соответственно, все менее качественным. Доля национального дохода, изъятого из потребления и направляемого на накопление, за несколько лет увеличилась с 10% до 35–50%, а материальный быт трудящихся ухудшился[40]. Так произошло отчуждение труда, создающего стоимость, от его оценки, выражаемой в плате за труд. Утратив характер эквивалента вложенного труда, зарплата потеряла способность стимулировать его качество. Двойное отчуждение населения · от власти и от результатов труда работающих за зарплату – укрепляло личную власть вождя. Но полному ее упрочению мешали достаточно независимые слои населения: крестьяне, ремесленники, торговая и мелкая промышленная буржуазия, доходы которых трудно было полностью контролировать. Сталин и его окружение как бы надстроили еще и третий уровень, проведя тотальное раскрестьянивание. Всеобщая принудительная коллективизация означала, во-первых, отчуждение от земли; во-вторых, лишение крестьян исконного права на самоорганизацию труда на земле и замену его трудом, организуемым сверху; в-третьих, отделение крестьянина от производимого им продукта (труд за «палочки»). Все эти процессы стали предпосылкой для возникновения четвертого, наиболее глубинного феномена – отчуждения производства от потребностей населения. Уже первая пятилетка свидетельствовала об отказе от привычного баланса народного хозяйства в
пользу сверхиндустриализации, означавшей максимальное развитие средств производства для решения задачи военно-технической революции[41]. В результате промышленность была переориентирована с удовлетворения потребностей населения на режим расширенного самовоспроизводства. Ускоренное развитие группы «А» стало обеспечиваться за счет такого ущемления группы «Б», что машиностроение не обеспечивало даже своевременную замену физически изношенного оборудования в легкой и пищевой промышленности. Эффективность нараставших инвестиций была низкой, поскольку значительная их часть оказывалась замороженной в недостроенных или плохо функционировавших объектах. Чтобы наращивать производство средств производства, цены на продовольствие были волюнтаристски занижены, а на промышленныe товары увеличены в несколько раз. При этом заработная плата стремительно росла в отраслях, не создающих потребительские товары, особенно в оборонных, и надолго замораживалась в сфере группы «Б». Эти деформации экономического роста обрели устойчивость, окончательно разведя в разные стороны производство и потребности населения. Одновременно был создан еще один, пятый уровень – отчуждение людей от правдивой информации. Естественно складывающееся историческое самосознание народа (точнее, народов СССР) было замещено отчужденно-фетишистскими его формами, фокус которых составляли обожествление вождя и персонификация врага. Монополия на высшие должности в государстве переросла в нетерпящее возражений притязание на абсолютную истину, ввергшее общественные науки в догматизм и апологетику властей. В сознании каждого человека с детства укоренялся «внутренний цензор», ибо говорить и писать можно было далеко не все, что думаешь, а только то, что дозволено официальной идеологией. Так утвердилась бездуховность народного сознания, науки и личности. Пять уровней отчуждения в их совокупности создали предпосылки для возникновения шестого, означавшего тотальную утрату гражданами личной безопасности. Правда, наружу выплескивались прежде всего сведения о репрессиях против сановной элиты. Низы воспринимали это самоедство номенклатурной бюрократии как расплату за причастность к незаслуженно получаемым ею благам. Но теперь мы знаем, что на самом деле репрессиям подвергались миллионы людей – рядовых крестьян, интеллигентов,
рабочих, целых этносов. Их судьба зависела от доносов сверху или снизу, из идейных или корыстных соображений, просто от принадлежности к определенным социальным или этническим категориям[42]. Машина тотального уничтожения народа работала с наводящей ужас ритмичностью, не щадя и «обслуживающий» ее персонал. В итоге возникла реальная историческая сила, которая присвоила себе не только руководство обществом, но и право распоряжаться судьбами множества людей, вплоть до их физического истребления. Объективно это означало возникновение новой исторической формы социального отчуждения огромных масс народа от труда, его средств и результатов, от власти и участия в управлении, от культуры и свободы, от многообразия качеств личности и даже от самой жизни человека как высшей ценности. Историческая и теоретическая неожиданность этого феномена заключалась в том, что он возник в тот самый момент, когда упразднялись обнаруженные теорией прежние, классические формы отчуждения, обусловленные частной собственностью на средства производства, и казалось, что тем самым вообще отчуждение устраняется. Однако под покровом этой иллюзии, в условиях общей культурной отсталости, нецивилизованности населения вызревали новые, неклассические формы отчуждения. К тому же они были сильно отягощены деформациями конкретно-исторического происхождения · перерождением административно-командной системы управления в тоталитарную. Как показала история, новые формы отчуждения во всех сферах жизни общества и человека оказались более пагубными и разрушительными, чем прежние[43]. Переплетающиеся друг с другом шесть слоев или уровней отчуждения, каждый из которых обладал двойной и тройной надежностью, образовали собой небывалую в истории «ловушку», в которую попало наше общество. Начался период автаркии, развитие остановилось, если позволительно сказать, произошло самоотчуждение общества от способности к развитию. Стержнем всех слоев отчуждения, их истоком и латентной целью была административно-командная система. Созданная во время сталинизма, она обрела необычайную силу и устойчивость
благодаря тому, что сумела адаптировать к своим целям и задачам все важнейшие структуры и элементы общества: коммунистическую партию, государство, промышленность, сельское хозяйство, образование, духовное производство, во многом даже семью. Она сумела вывернуть наизнанку их изначальное содержание, хотя внешне они оставались как бы социалистическими. Обманчивая их видимость была столь убедительной, что даже прозвучавшие на XX съезде КПСС разоблачения преступных действий Сталина оказались недостаточными. За узкой характеристикой «культа личности» совершенно не просматривался фундаментальный факт социального отчуждения. Реабилитация чести репрессированных граждан и некоторое ограничение сферы действия органов КГБ и МВД казались вполне достаточными мерами по преодолению последствий культа. В действительности же они лишь смягчили пятый слой отчуждения (наступила идеологическая «оттепель») и ослабили наиболее одиозный – шестой. Стоило репрессивной машине сузить масштабы своих действий, как начался процесс самоорганизации гражданского общества, возникли независимые от официальных органов производственные ячейки, которые самоорганизовались в специфическую сеть. Но это противоречило действующему законодательству и приобрело характер «теневой экономики». Ее агенты неизбежно вступили в альянс с поддержавшими их группами из партийно-хозяйственной номенклатуры. В итоге сформировался седьмой слой отчуждения, имеющий мафиозно-коррумпированый характер: самоотчуждение возрастающей части общественного труда от законных структур жизни общества, или, что то же самое – самоотчуждение этих структур от реальных экономических процессов. Последний круг отчуждения сомкнулся с первым (отчуждением от власти). Наступил застой, затем предкризисное состояние советского общества и, в конце концов, общий его кризис. Возник, стал быстро расти и обагряться редкий в истории процесс – патологический социокультурный кризис.
4.3. Патологический социокультурный кризис Кризис – одно из состояний живого организма. Еще в Древней Греции под кризисом понималось завершение или перелом в ходе некоторого процесса, имеющего характер борьбы. В самом общем
виде кризис есть нарушение равновесия и в то же время процесс перехода к некоторому новому равновесию[44]. В социологии принято различать стабильное и кризисное состояния общества. Первое означает устойчиво воспроизводящийся социальный порядок. Второе выражает нарушение стабильности, служит острой формой проявления социального конфликта, способом движения социальной системы от прежнего ее состояния, через дезинтеграцию и конфликт, к новому состоянию. В ходе своей эволюции любое общество неоднократно проходит динамический цикл «стабильность – кризис – новая стабильность». Кризисы в обществе бывают частичные и общие. К частичным относятся локальные кризисы, ограниченные частью территории данного общества (страны), и сферу или институциональные, поражающие конкретную сферу или институт общественной жизни (экономику, политику, образование и т.п.). Общие кризисы охватывают данное общество (страну) в целом, их можно поэтому именовать социетальными (от французского слова societe – общество). В свою очередь, среди социетальных кризисов необходимо различать: социальный, развивающийся в отношениях между людьми, складывающихся и воспроизводящихся в разнообразных процессах человеческой деятельности; культурный, поражающий сами способы деятельности человека, типы воспроизводственной деятельности общества; социокультурный или универсальный, объемлющий как совокупность социальных (общественных) отношений, так и культуру (способы) деятельности человека, взаимодействие социальных отношений и культуры. По характеру своей внутренней динамики кризисы общества можно разделить на два противоположных типа: саморазрешаемые – их большинство, они вписываются в естественную логику саморазвития общества и поэтому могут быть названы нормальными; патовые, заключающие в себе порок заколдованного круга и потому выступающие по отношению к естественному саморазвитию как патологические. Особый, редкий в истории случай представляет собой патологический социокультурный кризис. В наиболее чистом виде, в качестве веберовского «идеального типа» такой кризис характеризуется, во-первых, общим кризисом социальных отношений, эволюция определенного типа которых достигла завершающей стадии;
во-вторых, расколом культуры, инверсионная логика которой формирует заколдованный круг вариантов предкатастрофического состояния; в-третьих, препятствиями, которые инверсионная логика расколотой культуры возводит на пути саморазрешения кризиса социальных отношений, гоняя общество из одной кризисной ситуации в другую и направляя его, в конечном счете, к катастрофе. Общество, переживающее патологический социокультурный кризис, есть кризисный социум. Это специфическое, довольно редко встречающееся в истории состояние общества, характеризующееся уникальным сочетанием параметров социального и культурного развития. Именно такое состояние возникло в советском обществе на основе сложившегося после 1917 года тотального отчуждения человека, о генезисе и структуре которого речь шла выше. Восприняв вульгарные представления о социализме, тотально-политическая система провела огромную работу по усечению исторической многомерности человека и адаптации его к собственной одномерности. Необычайно разросшись, она сплющила социальную структуру, раздавила гражданское общество и подчинила экономику критериям политической целесообразности, превратив большую часть материального производства в самопожирание богатейших природных и трудовых ресурсов страны. Социокультурный кризис советского общества охватил все основные сферы его социального бытия: – политическую, где произошла потеря управляемости на всех уровнях и во всех звеньях функционирования государства, развились острые политические конфликты (межнациональные, корпоративные и иные), вплоть до вооруженных столкновений; – экономическую, где сложился тотальный дефицит товаров и услуг, гиперинфляция доходов – населения, огромный и быстро растущий государственный долг – внутренний и внешний; – структурно-производственную, где обнажился дефицит природных и трудовых ресурсов огромной страны, занимающей шестую часть суши всей планеты, дефицит, обусловленный ресурсо-поглощающей, «самоедской» структурой милитаризованного производства; – собственно социальную (в социологическом смысле понятия «социальное»), где произошла стремительная дезинтеграция социальных групп и институтов, утрата идентификации личности с прежними структурами, ценностями, нормами. Все это означает общий кризис социальных отношений. Но социальный кризис – только одна часть социокультурного кризиса
советского общества. Другая, не менее значимая его составляющая – кризис культуры, т.е. кризис самих способов деятельности человека, типов воспроизводственной жизнедеятельности общества. Реальность этого кризиса подтверждается тем, что он охватил такие сферы общественной жизни: – духовно-нравственную, где обнажилось разложение общественных нравов в условиях тотального дефицита товаров и услуг, бесперспективности решения людьми все большего числа своих жизненных проблем; – трудовую, где мотивы содержательного труда уступили ведущее место мотиву низкой интенсивности труда, трудовая пассивность стала принципиальной позицией большинства, а инновационная деятельность на производстве лишилась престижа и поддержки; – этническую, где подрыв условий развития национальной самобытности многих этносов, особенно малочисленных, привел к угрозе самому их существованию, особенно вследствие хищнической политики ведомств; – экологическую, где угроза уничтожения биологических условий жизни нависла над уже большим и все увеличивающимся пространством, а нормальное для жизни пространство сжимается, как шагреневая кожа. Два кризиса социальный и культурный – сложились в одном обществе и действовали в нем одновременно. Точнее, они взаимодействовали, но весьма специфически, воплощая своеобразие советского общества как социокультурной реальности. Возникло патологическое состояние общества, характеризуемое разладом между культурой и социальными отношениями, распадом всеобщности, культурного основания общественного воспроизводства. Это состояние в полной мере проявило себя в СССР во второй половине 80-х – начале 90-х годов XX столетия. Социокультурный кризис открывал несколько возможностей дальнейшего развития социальных отношений в стране: 1) через регулируемые государством рыночные отношения к гуманному социализму; 2) через шоковое самоутверждение рыночных отношений к капитализму; 3) через сочетание шоковых и регулируемых методов становления рыночных отношений к смешанной (многоукладной, многосекторной) экономике. Первая возможность сочеталась преимущественно с демократизацией общественной жизни; вторая и третья возможности предполагают глубокую социокультурную реформацию всего общества.
С середины 80-х годов, в течение нескольких перестроечных лет, основные социально-политические силы страны стремились к тому, чтобы реализовать первую возможность. Перестройка представляла собой попытку вывести страну из социального кризиса, преодолеть тотальное отчуждение человека, не меняя радикально отношений собственности, типа общества. Начав с позднейших исторических пластов отчуждения, она стала вскрывать и снимать следующие, более глубокие его пласты, освобождать массовое сознание и социальное бытие от отчужденно-превращенных их форм. Новые законы, либерализовавшие хозяйственную инициативу, позволили легализовать многие области теневой экономики. Началось утверждение правового государства, защищающего права человека. Утвердилась гласность, восстановлены ключевые звенья исторической правды, хотя до полной правды еще далеко. Иными словами, неплохо перепаханы седьмой, шестой и пятый слои отчуждения. Но перестройка забуксовала, а затем и вовсе заглохла перед четвертым, фундаментальным пластом – отчуждением производства от потребностей населения. Лишь начальные шаги были сделаны в зонах третьего, второго и первого слоев отчуждения раскрестьянивание, право наемных работников на цивилизованную долю дохода, преодоление самовластия номенклатуры). Это означает, что движение по первому, социально наиболее простому пути преодоления кризиса было остановлено менее чем на полпути. Произошло это в соответствии с механизмом инверсионной логики: активизация демократических сил возбудила противодействие правоцентристского блока и парализовала движение. В конце 80-х годов произошли изменения в структуре демократических сил страны. Усилилась их ориентация на осуществление второй и третьей из приведенных выше возможностей: через утверждение рыночных отношений к капитализму или к смешанной экономике. Были разработаны и на высоком государственном уровне одобрены несколько программ соответствующего перехода. Но еще более активизировали противодействие правые силы, овладевшие центром. Вновь возникла патовая ситуация: ни одна из программ не стала руководством к действию. Патологический кризис продолжался.
Глава 5. Динамика кризиса и ценностиФакт социокультурного кризиса становился все более очевидным, но оставался не измерен эмпирически и не осмыслен теоретически. Возникла настоятельная потребность определить стадии развертывания кризиса, конкретные его социальные и духовные параметры, механизмы, на основе которых формируются возможные варианты его разрешения. Иными словами – потребность в комплексе исследований совершающегося на наших глазах процесса, исследований экономических, социологических, политологических, социально-психологических, исторических.
5.1. Эмпирические характеристики кризиса, его динамика В 1989–1991 гг. было проведено первое всероссийское исследование кризиса «Наши ценности сегодня»[45]. Основная его цель заключалась в том, чтобы через изучение актуализировавшихся ценностей выявить существенные социальные характеристики кризисного этапа развития российского общества, предложить вариантный прогноз динамики этого этапа. Программа
исследований дана в конце главы в приложении 1. Здесь мы фазу перейдем к характеристике некоторых его результатов. Их анализ содержится также в главах 8 и 9 настоящей книги. Мы исходили из того, что в динамике кризиса различаются три новые стадии: 1) дестабилизация социального порядка; 2) острый конфликт; 3) разрешение кризиса. Исследование было нацелено на то, чтобы фиксировать, как минимум, первые две стадии кризиса, наблюдавшиеся одновременно, но в разных масштабах: дестабилизационную стадию, характерную в целом для российского общества середины 1990 г. и поэтому представленную основным массивом данных, репрезентативным для всей России; остро-конфликтную стадию, представленную данными из «горячих точек» социальной напряженности (массовые забастовки, столкновения с органами власти). Это позволило провести эмпирическое сопоставление двух стадий кризиса и дать прогноз характера перехода к третьей, разрешающей его стадии. Последнее особенно важно для понимания нынешней фазы кризиса нашего общества. Социальный портрет респондентов основного массива (973 человека) характеризовался следующими данными. Женщин оказалось около 51%, мужчин – 49%. Молодежь (16–29 лет) составила более 23%, первый (30–44 года) и второй (45–59 лет) зрелые возрасты – соответственно около 34% и 27%, лица пожилого возраста (60 лет и старше) – 16%. К коренной нации региона, в котором они проживают, отнесли себя 81,3% респондентов, к некоренной нации – 12,9%; остальные (5,8%) уклонились от ответа на такой вопрос. 28% живут в деревнях и селах, 13% – в рабочих поселках, примерно по 17% – в малых и средних городах, около 25% – в крупных городах. Из них около 40% считают себя коренными горожанами и свыше 30% – коренными селянами. Около 80% имеют родственников в том же населенном пункте, но у 20% нет здесь ни родственников, ни друзей. Преобладают лица семейные: их почти 73%, включая 10% состоящих в браке не первый раз. Свыше 13% – разведенные и вдовцы, столько же никогда не состоявших в браке. У 47% среди родственников есть убитые и раненые в различных войнах за годы советской власти. Каждый пятый непосредственно сталкивался с репрессиями: был репрессирован сам или кто-то из его родственников. Двое из каждых трех опрошенных не считают себя религиозными людьми. При этом 50,4% респондентов положительно относятся к верующим (им нравятся такие люди), 8,9% – отрицательно, 37,4% колеблются в своем отношении к данной группе.
К рабочим отнесли себя 48% опрошенных, из них 2/3 – к потомственным рабочим, а треть – к рабочим в первом поколении. Около четверти респондентов – крестьяне, но среди них лишь 1,2% (12 человек) – крестьяне в первом поколении (предварительно отметим, что по своим ценностным ориентирам они существенно радикальнее, современнее потомственных крестьян). Немногим более 20% – интеллигенты, в том числе 8% считают себя потомственными интеллигентами. Около 6% респондентов не идентифицировали себя с какой-либо макросоциальной группой. Средний месячный заработок на основной работе, включая премии и надбавки, составлял в 1990 г. у 15% респондентов менее 100 руб., т.е. на грани и за чертой нищеты (в ценах 1990 г.). Половина опрошенных зарабатывала от 100 до 200 рублей, или существовали на грани прожиточного минимума. От 200 до 300 рублей, или ниже уровня, необходимого тогда для обеспечения достаточного стандарта жизни, зарабатывали еще почти 20%. В пределах этого стандарта и выше его находились заработки немногим более 10% респондентов: 9% – от 300 до 500 рублей и 1,5% – свыше 500 рублей. Около 5% респондентов не дали ответа на вопрос о заработке на основной работе. Для подавляющего большинства этот заработок был единственным, лишь 11% имели приработки на дополнительной работе от 60 до 150 рублей, редко выше этой суммы. Еще около 9% имели мелкие приработки (менее 60 рублей). Социальный портрет респондентов из «горячих точек» (Красноярск, Новокузнецк, Норильск – всего 445 человек) близок к портрету основного массива. Но имеются различия, обусловленные характером выборки. Здесь преобладают жители крупных городов, из них две трети – коренные горожане. Рабочие составляют около 54%, из них 4/5 – потомственные рабочие. Это в большинстве шахтеры, у которых зарплата выше среднероссийской; поэтому в «горячих точках» средняя зарплата от 300 до 500 рублей – у 18% респондентов, свыше 500 рублей – у 18,3%. Какие жизненные проблемы, касающиеся лично каждого человека и членов его семьи, наиболее беспокоили респондентов основного массива в середине 1990 г.? В таблице 3 приводится список из 14 проблем, ранжированных в соответствии с числом ответов (в %) по признакам «очень беспокоят» (ранг № 1) и «совсем не беспокоят» (ранг № 2). В таблице опущены графы «Не могу сказать точно» и «Не дали ответа», в силу чего сумма процентов в строках меньше 100.
Таблица 3. Вопрос: Насколько Вас беспокоят следующие проблемы
Структура проблем в «горячих точках» близка к приведенной. Здесь также на первом месте проблема загрязнения окружающей среды. Но на втором и третьем местах оказались иные проблемы: рост преступности и качество школьного образования. Ранги остальных проблем отличались всего на один-два пункта. И здесь список завершает проблема антисемитизма. В структуре проблем по рангу № 2 вообще нет различий более чем на два пункта.
Следовательно, по структуре очень беспокоящих людей проблем нет резких различий между первой и второй стадиями кризиса: в этом отношении дестабилизационная стадия плавно превращается в остро-конфликтную. Вроде бы в структуре проблем не произошло существенных изменений – почти все, как и вчера, а тем не менее сегодня на улицах уже массовые демонстрации, столкновения граждан между собой и с правоохранительными органами, вплоть до кровопролития. Но это так только на первый, самый общий взгляд. Грозным симптомом кризиса уже на дестабилизационной стадии стало выдвижение в первый эшелон целой батареи грубых, зримых материальных проблем: загрязните среды, недостаток продуктов и товаров – как первой необходимости, так и длительного пользования. Подчеркнем, что самой беспокоящей, с отрывом от остальных более чем на 10 пунктов, оказалась экологическая проблема (очень беспокоит 63,9%, а всего – почти 87% опрошенных). Это и Чернобыль, и множество других фактов повседневного отравления среды обитания человека, ставших известными россиянам благодаря гласности. 83,5% респондентов полагали, что повторение Чернобыля возможно и в других местах России, а еще большее число (87,3%) – что загрязнение окружающей среды угрожает самому существованию нашей страны. Около 70% опрошенных отдали бы часть своих сбережений на охрану окружающей среды, если были бы уверены, что эти средства будут использованы по назначению. Проблема недостатка продуктов и товаров в 1990 г. – прежде всего проблема почти тотального их дефицита в государственной торговле. Это вело к значительным тратам времени населения в очередях. 44–50% опрошенных вынуждены были часто приобретать многие продукты и товары на черном рынке, из-под прилавка, по знакомству и иными способами, переплачивая при этом немалые деньги. Половина респондентов считала, что в 1990 г. они и их семьи стали жить хуже, чем год назад, а свыше трети ожидали, что в следующем году будут жить еще хуже, в том числе 14% – значительно хуже. Этому соответствует высокая неудовлетворенность россиян доступностью качественных потребительских товаров и обслуживанием потребителей (80–85% в основном массиве, на 5–7% выше в «горячих точках»). Приведенные данные характеризуют тенденции первой, дестабилизационной стадии кризиса. Одним из индикаторов перерастания кризиса в следующую, остро-конфликтную стадию можно
считать отмеченное выше выдвижение в регионах «горячих точек» из второго эшелона в первый двух весьма разнородных проблем: телесно-кровавой (рост преступности) и духовной (качество школьного образования). Если в основном массиве незащищенными от организованной преступности и хулиганских групп чувствовали себя 55–58% респондентов, то в «горячих точках» это чувство распространилось уже на 75–76%, т.е. увеличилось более чем на треть. Соответственно усилилась и неудовлетворенность защитой от преступности (с 62% до 80%). Менее ясно, какой конкретный смысл заключает в себе проблема «качества школьного образования». К сожалению, на эту тему в нашем интервью больше не было вопросов. Можно лишь предположить, что суть проблемы связана не столько с уровнем знаний, сколько с выходом из-под контроля школы вопросов воспитания подростков, все сильнее попадающих под влияние улицы с ее криминогенными группами. Тогда становится понятно, почему проблема качества школьного образования оказалась в тандеме с ростом преступности и служит одним из индикаторов остро-конфликтной части кризиса. За счет этого тандема в «горячих точках» понизился на один-два пункта ранг большинства проблем из приведенного выше списка. Кроме транспортных: их ранг, напротив, повысился на два пункта. Это еще один индикатор, указывающий на быстрый рост мобильности населения и снижение возможностей транспортного обслуживания при перерастании кризиса в более острую стадию: если в основном массиве эти проблемы очень беспокоили около 20% опрошенных (а всего – около 60%), то в «горячих точках» – около 28% (всего – около 70%). Уже на первой стадии кризиса широко распространились ощущения различных угроз и незащищенности индивидов. Несмотря на достижения перестройки в области гласности и прав человека, у немалой части россиян сохранилось чувство незащищенности от преследований за политические убеждения (15%) и по национальному признаку (12%). Четверть населения испытывала чувства одиночества и заброшенности, страдала от ощущения, что жизнь зашла в тупик. Около 30% испытывали незащищенность от бедности и бездомности, от различных опасностей в сфере труда, а около 40% – на территории проживания. Наименее защищенными люда ощущали себя от организованной преступности и хулиганских групп (55–58%), а особенно – от экологической угрозы (71%). В «горячих точках» чувства незащищенности почти по всем позициям распространены среди населения больше на 10–20%.
Картина усугублялась тем, что люди не видели реальной заботы о себе со стороны властей, прежде всего от местных. «Властям все равно, что будет с нами», – считали свыше 50% респондентов (в «горячих точках» 64%), а «такие люди, как я, не могут влиять на деятельность властей» (65%). Поэтому 68% опрошенных (в «горячих точках» 72%) никогда не обращались в местные органы власти или к влиятельным лицам за решением возникавших вопросов, хотя надобность в этом была, и 82% не участвовали в работе общественных групп, создававшихся для решения тех или иных проблем. Такова мера самоотчуждения человека от власти. Отчуждение от власти выражалось в недоверии граждан важнейшим ее институтам: КПСС, правительству СССР, милиции и судам, профсоюзам и комсомолу (недоверие выразили от 40 до 60% респондентов, в «горячих точках» – 64–75%). Центр этого недоверия составляло монопольное положение КПСС в структуре власти: против такой монополии, за многопартийность высказывались около 50% опрошенных, а в «горячих точках» около 65%. В этой монополии большинство респондентов видели нарушение принципов демократии, причину существования номенклатуры, неподотчетной низам, что приносит больше вреда, чем пользы (лишь 5% усматривали в наличии номенклатуры больше пользы). Общее падение авторитета властей и доверия к ним отметили 56% респондентов, а в «горячих точках» – 70%. Относительным доверием населения пользовались в 1990 г. два общественныых института: вооруженные силы (56%) и церковь (60%). Однако в «горячих точках» доверие к армии оказалось ниже почти на треть (37%), а к церкви – на 7%. Своеобразным символом политического доверия населения России тогда служило отношение к Б.Н.Ельцину. 73% респондентов основного массива определенно доверяли ему как политическому лидеру, являвшемуся тогда Председателем Верховного Совета РСФСР. Но в «горячих точках» это доверие оказалось немного ниже (70%). Это свидетельствовало о достигнутом к середине 1990 г. максимуме доверия, полученного Б.Н.Ельциным благодаря четким позициям-обещаниям. Дальнейшая судьба этого кредита доверия зависела от того, в какой мере за обещаниями следовали дела, практические решения политических и экономических задач, жизненно значимых для населения России. В целом к 1990 г. интерес к политике возрос у 62% респондентов, в том числе значительно возрос у трети (в «горячих точках» соответственно у 75% и 44%). Прежде всего у этой трети сформировалось убеждение, что следует объединяться с
единомышленниками, искать свое широкое движение, свою политическую партию (в «горячих точках» число таких респондентов достигало 40%). Произошла политизация значительной части общества, престиж политических деятелей, в том числе парламентариев, поднялся весьма высоко. В исследовании «Наши ценности сегодня» зафиксирована высокая степень осознания респондентами уже в 1990 г. факта кризиса экономики и всего общества (в основном массиве 58%, в «горячих точках» – 69%), а также кризиса, остановки, попятного хода перестройки (соответственно 50% и 57%). Интегральным показателем универсальности и глубины кризиса на индивидуальном уровне может служить тот факт, что жизнью в целом были неудовлетворены 54.6% респондентов, в том числе «совсем неудовлетворены» 8,6%. В «горячих точках» эти показатели еще выше: соответственно, 68,6% и 13,3%. Экзистенциальный характер кризиса еще резче характеризует такой показатель, как неудовлетворенность качеством медицинского обслуживания: 66% в основном массиве и 80% в «горячих точках». Респонденты основного массива повсеместно отметили такие индикаторы первой, дестабилизационной стадии кризиса, как метания органов властей из крайности в крайность. Вместе с тем, они подтвердили быстрое нарастание конфликтов, что соответствовало наблюдаемому увеличению числа массовых забастовок, митингов в различных регионах страны. Эти и другие данные, частично приведенные выше, позволили заключить, что в 1990 г. кризис перерастал из первой стадии во вторую – остро-конфликтную. Те 10–20%, на которые постоянно отличается ситуация в «горячих точках» от основного массива, составляют как бы «точку кипения», где кризис превращается из одного состояния в другое. Еще лишь предстоявшую тогда третью, разрешающую стадию кризиса мы представили при разработке программы исследования как перекресток двух кризисных дорог, или «осей»: (1) вертикальная ось «Y» обозначает альтернативу социально-политических целей – утверждение демократического социального порядка или восстановление тоталитаризма а той или иной его форме; (2) горизонтальная ось «X» обозначает альтернативу нормативно-правовых средств, способов достижения целей – конституционно-правовые, законные действия ига. «политически-целесообразная» вседозволенность. В качестве наиболее вероятных вариантов разрешения кризиса мы заложили в инструментарий исследования следующие четыре:
а) конфликты в обществе будут и впредь, но примут конституционный характер и будут решаться только на основе закона (интитуционализируются), ради утверждения демократического социального порядка; б) на основе правовых норм, через диалог партий и движений непосредственно достигается согласие (консенсус) политических сил ради утверждения демократического социального порядка; в) возобладает вседозволенность, в условиях которой конфликты становятся неуправляемыми и перерастают в социальную катастрофу; г) незаконным путем осуществляется «откат назад», к тоталитарным порядкам, которые в итоге тоже оказываются дорогой к социальной катастрофе.
Схематически эти варианты представлены на рис. 1.
Рис. 1. Перекресток кризисных дорог.
Цифры без скобок на этом рисунке означают оценку вероятности каждого варианта, которую дали респонденты исследования «Наши ценности сегодня» летом 1990 г.: вариант «а» – 29%, вариант «б» – 34%, вариант «в» – 31%, вариант «г» – 4% и 7%. Характерно, что в данном случае оценки респондентов основного массива и «горячих точек» практически совпали: они идентичны или отличаются на один пункт, за исключением варианта «г» (основной массив – 4%, «горячие точки» – 7%). Цифры в скобках – наша оценка, сделанная осенью 1990 г.[46] Как видно, эти оценки не совпадают. Исследователь вообще не может не относиться критически к получаемым им эмпирическим данным. В рассматриваемом случае наибольшее различие заключается в оценке возможности «отката назад» (вариант «г»): респонденты не исключали возможности возврата к авторитарному режиму, но не ощущали реальной его опасности. У населения тогда еще не возник антитоталитарный иммунитет, это как раз и повышало вероятность осуществления авторитарного варианта. Но максимальной все же оставалась вероятность движения по пути институционализации конфликтов (вариант «б»). Августовский путч 1991 г. означал вступление кризиса советского общества (в масштабах СССР) в третью, завершающую стадию. Программа ГКЧП ориентирована на возврат общества к тоталитаризму, т.е. представляла собой попытку разрешить кризис в соответствии с авторитарным вариантом. Объявление чрезвычайного положения в Москве, Ленинграде и некоторых других «местностях» угрожало перерастанием локальных конфликтов в гражданскую войну. Однако сопротивление путчистам, оказанное революционно-демократическими силами России, в особенности
при защите Белого дома в Москве, привело к их быстрому поражению. Тем не менее, потрясение, вызванное путчем, оказалось достаточным для того, чтобы столкнуть СССР к политической, а затем и общей катастрофе. Разрешающая стадия кризиса приняла характер кризиса интеграции страны. Лавинообразно нарастая, политическая ее дезинтеграция завершилась в декабре 1991 г. самоутверждением России и других 14 союзных республик в качестве независимых государств. Затем пошла эскалация экономической, социальной и культурной дезинтеграции. Вскоре свершилось невероятное: могучая, но неспособная к интенсивному изменению моносистема перестала существовать. Итак, патологический социокультурный кризис СССР завершился катастрофой той социальной системы, в недрах которой он возник. Конституировавшие себя суверенные государства представляют собой качественно иные образования, чем прежние советские республики. Но социокультурный кризис распавшегося СССР остался с ними, в них: в каждой по-своему, сообразно ее особенностям. В этом смысле он продолжается, обретя свое инобытие в постсоюзных государствах. Его завершение в масштабах СССР стало началом целой системы кризисов – более локальных, но не менее грозных для каждой отдельной страны и для их совокупности. Подобную опасность наглядно продемонстрировали последствия распада Югославии. Российская Федерация – Россия, по-видимому, наиболее полно унаследовала от Союза ССР его универсальный кризис. Вместе с тем, переживаемый российским обществом кризис имеет две существенные особенности, отличающие его от прежнего, общесоюзного кризиса. Первая из них, более явная, состоит в следующем: в отличие от социокультурного кризиса СССР, сопровождавшегося лишь идеологическими и ограниченными политическими реформами (границей последних оказалась монополия КПСС на власть), кризис в современной России сопряжен с попытками действительно радикальных реформ всего общества, прежде всего – демократизации политической жизни и создания рыночной экономики. Иными словами, современное российское общество есть одновременно и кризисное, и реформируемое – кризисно-реформируемое общество. Реформы воздействуют на кризис, но не так, как ожидалось: они пока что способствуют его расширению и обострению, а не разрешению. Со своей стороны, кризис негативно влияет на реформы,
вызывает непредвиденные их последствия. Словом, взаимодействуя, кризис и реформы искажают динамику друг друга, формируют неожиданные результаты. Это свидетельствует о том, что пока еще не возник механизм саморазрешения кризиса, т.е. кризис и в постсоюзной России сохраняет патологический характер. Подобное состояние общества можно достаточно корректно описать с позиций синергетики. По И.Пригожину, если система уходит далеко от равновесия и переступает порог устойчивости, она оказывается в хаотической области, для которой характерны множество точек бифуркации и сильные последствия слабых случайных флуктуаций[47]. В интерпретации российских синергетиков это означает развитие системы через неустойчивость «в режиме обострения», т.е. сверхбыстрого (асимптотического) нарастания процессов на основе нелинейной положительной обратной связи. При этом обнаруживается, что «неизбежный распад сложных быстроразвивающихся структур – одна из закономерностей мироустройства»[48]. Именно это и произошло с СССР на последнем этапе его универсального кризиса. Российское кризисно-реформируемое общество также находится в хаотической области и развивается через неустойчивость в режиме обострения... к чему? К распаду, вслед за СССР? Или же к переструктурированию в более желательное индивидам социо-культурное состояние? Или какие бы то ни было прогнозы относительно будущего системы, находящейся в хаотичной области, вообще невозможны? Согласно И.Пригожину, вблизи бифуркаций основную роль играют флуктуации или случайные элементы, а наличие множества точек бифуркаций в области хаоса не позволяет прослеживать отдельную траекторию системы и предсказывать детали ее развития во времени, – возможно только статистическое описание. С.П.Курдюмов и его коллеги развивают идею иного рода: число ветвящихся дорог ограничено; да, случайность работает, и имеют место «блуждания по полю путей развития». Но «не какие угодно, а в рамках вполне определенного, детерминированного поля возможностей»[49]. Конкретный, социально-политический и экономический (математики сказали бы «физический») смысл нелинейностей, описываемых синергетикой, того поля возможностей, в котором
оказалось российское кризисно-реформируемое общество, можно представить, как и союзный кризис, в виде перекрестка постсоюзных дорог. На российской почве он превращается в социальную перепутицу, где разные пути-дороги спутываются, превращаются в сопряженные круги блужданий постсоюзной России по полю возможных путей своего изменения. Их сопряжение образует хаотическую область, правый верхний круг – область социальной реформации, а левый нижний круг – область социальной реставрации или деградации (см. рис. 2).
Рис. 2. Сопряженные циклы эволюции, или «восьмерка блужданий» постсоюзной России.
Обозначения: а) согласие (консенсус) политических сил; б) институционализация конфликтов; в) социальная катастрофа. Левый нижний цикл эволюции российское общество впервые совершило с 1989 до конца 1991 г.; августовский путч, означавший
попытку отката к одной из форм тоталитаризма, привел к катастрофе союзной моносистемы. В 1992 г. началось новое движение к демократии и законности; однако в 1993 г. наше общество вновь оказалось в эпицентре хаотической области, среди множества бифуркаций, перед новым выбором, который и был сделан в сентябре-октябре опять-таки в пользу «политически-целесообразной» вседозволенности. Едва возникнув, демократическая система рухнула. Но, к счастью, не совсем, а тут же начала пересоздаваться в новую. С принятием новой Конституции и выборами Федерального Собрания (декабрь 1993 г.) начался третий цикл эволюции. Российское общество вновь оказалось перед выбором: или перейти на орбиту правого верхнего цикла и двигаться дальше по пути демократии, через институционализацию конфликтов и относительный консенсус политических сил к торжеству законности, – или вновь свалиться на орбиту левого нижнего цикла и воссоздать некую форму тоталитаризма с его циничной вседозволенностью. Время этого цикла определено Конституцией: до новых выборов Государственной Думы и Президента России, т.е. не позднее середины 1996 г. (вновь два – два с половиной года). Такова первая особенность нынешнего кризиса российского общества. Вторая его особенность связана с тем, что распад СССР предстает по отношению к исторической ретроспективе России как обвальная «деколонизация», перечеркивающая тысячелетнюю историю колонизации. Численность населения России в одночасье сократилось вдвое, а жизненно важные части ее геополитического пространства на западе и юге оказались «ближним зарубежьем». Там остались миллионы русских и иных «русскоязычных», близких россиянам по культуре. А внутри сузившегося российского пространства крепнет националистический, номенклатурный, мафиозный и иной местный сепаратизм, стремящийся выйти из-под государственной юрисдикции России. Он усугубляется разрывом большого числа хозяйственно-экономических связей, вплоть до первичных, дезинтеграцией социальных структур и институтов. Углубляется десоциализация личности, рушатся прежде надежные социальные ориентиры жизни индивидов. Для миллионов людей, живущих в России, возник вопрос: а что такое сегодня Россия? Есть ли у меня большая Родина как нечто целое, как стабильная большая социальная общность, а не дырявое и постоянно сужающееся «пространство»? Кризис интеграции, унаследованный от последней стадии союзного кризиса,
перерос в кризис идентичности России и ее граждан как нравственных и политических субъектов. Эта вторая особенность кризиса российского общества изображена на рис. 2 в виде перекрестка из двух пунктирных осей. Ось «Бета» означает альтернативу идентичности страны как исторической цели: целостность России, идентичность ее граждан с этим целым, или территориальная ее раздробленность, утрата гражданской идентичности. Ось «Альфа» означает альтернативу политических средств решения проблемы исторической идентичности: федерализация территориально-государственного устройства, в различных ее формах, или суверенизация территорий по национальному или иным признакам. Вторая особенность кризиса взаимодействует с первой, накладывается на нее. Обе они имеют тенденцию усиливать друг друга, а вместе – расширять и углублять социокультурный кризис. Это консервирует его патологический характер: не обретая механизма саморазрешения, он получил дополнительный механизм самоподдержания и обострения. Но нет предзаданности путей эволюции России. Напротив, есть хаотическая область этой эволюции со множеством точек бифуркации. Значит, есть множество возможностей выбора того или иного пути. Высока вероятность того, что действительностью станут очередные социальные превращения, а не действия граждан ради собственных интересов. Поэтому глубинный выбор, перед которым находится Россия, отнюдь не является только политическим или только экономическим. Этот выбор имеет универсальный, общецивилизационный стратегический смысл: принимает ли Россия в качестве главного, определяющего человеческое измерение своего развития или же она по-прежнему будет подчинять его измерение иным, безлично-институциональным параметрам? Что определяет стратегический, социокультурный выбор, делаемый рядовыми гражданами и теми, кто находится у власти? Очевиден общий ответ на этот вопрос, если следовать традиционной для нашего менталитета схеме: выбор путей развития общества определяют политические и экономические решения парламента и правительства, воплощающиеся ныне в радикальных реформах в России. Нет, мол, ясности лишь в том, какие именно решения, реформы следует принимать и осуществлять: из-за этого и скрещивают шпага политические мушкетеры, находящиеся у власти и добивающиеся ее.
Допустим, что это так. Тогда почему парламентские законы, президентские и правительственные указы, постановления, программы реформ не реализуются, а если и осуществляются, то не так и совсем с другими результатами? Говорят, дело в том, что в них отсутствует механизм реализации. Допустим, но почему не делается столь элементарное? К тому же, немало постановлений и программ включает разделы с описанием механизма их реализации, но это не помогает делу. Значит, дело в чем-то ином. Не в самих по себе решениях властей по ключевым проблемам, а в нетрадиционных для нас корнях совершающихся «здесь и теперь» процессов. В тех «корешках», которые мы до сих пор считаем «вершками» общественной жизни. Чтобы нащупать эти «корешки», следует поглубже вникнуть в общую структуру мотивов человеческих действий. Вслед за Вебером, будем различать четыре вида таких мотивов: традиции, аффекты (эмоции), цели, ценности[50]. Они мотивируют поведение людей не только сами по себе, но, с одной стороны, на основе совокупностей потребностей, «которые направляют действия людей на соответствующие объекты, и, с другой стороны, через разнообразные нормы (правила, образцы, стереотипы) поведения. Интересы, при всем их значении, непосредственно определяют преимущественно целе-рациональные действия. Ценности же не только мотивируют ценностно-ориентированные действия, но одновременно служат фундаментальными нормами любых видов действий. Итак, глубинными регуляторами человеческих действий являются, в конечном счете, потребности и ценности. Их роль особенно значительна в условиях социокультурного кризиса, когда общество оказалось в хаотической области своей динамики. Согласно синергетическому мировоззрению, хаос на микроуровне служит необходимым элементом саморазвития системы, поскольку выводит ее на аттрактор, то есть на такую структуру, которая как бы притягивает систему к ее будущему, формирует его из наличного ее состояния[51]. На наш взгляд, роль таких структур – аттракторов – выполняют в обществе прежде всего ценности. Точнее, новые их структуры, формирующиеся в условиях кризиса. Обратимся к их анализу, опираясь на результаты исследования «Наши ценности сегодня». Будем при этом двигаться от
эмпирических фактов и структур к обобщенным теоретическим выводам.
5.2. Ценности и ценностные суждения Мир человеческих ценностей, затронутый бурными переменами, стал очень изменчив и противоречив. Кризис системы ценностей означает не их тотальное уничтожение, а изменение их внутренних структур. «Ценности культуры не погибли, – отметил в сходной ситуации Ортега-и-Гассет, – однако они стали другими по своему рангу. В любой перспективе появление нового элемента влечет за собой перетасовку всех остальных элементов иерархии»[52]. Ценности – это обобщенные цели и средства их достижения, выполняющие роль фундаментальных норм, которые обеспечивают интеграцию общества, помогая индивидам осуществлять социально одобряемый выбор своего поведения в жизненно значимых ситуациях, в том числе выбор между конкретными целями рациональных действий. Ценности служат социальными индикаторами качества жизни, а система ценностей образует внутренний стержень культуры, духовную квинтэссенцию потребностей и интересов индивидов и социальных общностей; она, в свою очередь, оказывает обратное влияние на социальные интересы и потребности, выступая одним из важнейших стимулов социального действия, поведения индивидов[53]. Ценности различают по их предметному содержанию (духовные и материальные; экономические, социальные, политические и т.п.), по роли в жизнедеятельности индивида (терминальные и инструментальные), по функциям в конкретной ситуации общества (интегрирующие и дифференцирующие) и по иным основаниям. Чем универсальнее ценность, тем выше интегрирующая функция стимулируемых ею массовых действий, а обособляющая, партикуляристская ценность вызывает углубление социальной дифференциации в обществе. Но одна и та же ценность выполняет разные функции на различных стадиях развития общества, в различных социальных ситуациях.
В исследовании «Наши ценности сегодня» мы исходили из того, что каждая ценность имеет двуединое основание: в индивиде как самоценном субъекте и в обществе как социокультурной системе. Соответственно, состав изучаемых ценностей мы формировали по обоим основаниям. С одной стороны, их совокупность должна представить основные жизненные потребности индивидов – витальные, интеракционистские, социализационные, смысложизненные; она должна также представить оба типа ценностей, дифференцируемых по их значению для личности: терминальные («дальние», целевые) и инструментальные («ближние», служащие средствами по отношению к первым) ценности[54]. С другой стороны, эта же совокупность должна помочь выяснить социокультурную двойственность сознания россиян: общее раздвоение ценностей индивидов в условиях перехода от традиционной цивилизации к современной и специфически значимое для кризисного социума деление ценностей на преимущественно интегрирующие и дифференцирующие. Сформировать компактную совокупность ценностей, отвечающую всем этим требованиям – весьма сложная задача. Участники исследования посвятили много времени разработке и обсуждению различных вариантов ее решения. Вначале был проведен анализ зарубежной и отечественной литературы, обобщен имеющийся опыт. Далее, из всего многообразия ценностей были выделены те, которые в большей мере влияют на поведение индивида в кризисном обществе. Решению этой задачи помогло свободное интервью с 50 студентами, которым предлагалось в произвольной форме высказать наиболее значимые для каждого ценности. Обобщив полученные данные, участники проекта сформировали список ценностей, который оказался слишком большим. В связи с этим были сокращены синонимичные и идеологические понятия, сохранены только те ценности, которые соответствуют задачам исследования. Поскольку исследование ориентировано на выявление поведенческо-мотивирующих ценностей, большое значение приобретало разделение терминальных и инструментальных ценностей. Терминальные ценности – это отдаленные идеализированные цели или идеалы. Инструментальные же ценности обобщенно выражают
способы достижения этих целей и идеалов; эти ценности можно также считать поведенческими. В итоге, были отобраны 7 терминальных и 7 инструментальных ценностей: терминальные ценности: 1. жизнь человека как самоценность; 2. свобода, в современном значении этого термина как «свободы для...»; 3. нравственность как качество поведения человека в соответствии с моральными и этическими нормами; 4. общение в семье, с друзьями и другими людьми, взаимопомощь; 5. семья, личное счастье, продолжение рода; 6. работа как самоценность и как средство заработка; 7. благополучие, доходы, комфорт, в их соотношении с некоторыми «постматериалистическими ценностями»; инструментальные ценности: 8. инициативность, предприимчивость, способность выразить себя, выделиться; 9. традиционность, исполнительность, зависимость от обстоятельств; 10. независимость, способность быть индивидуальностью, руководствоваться собственными критериями, противостоять внешним обстоятельствам; 11. самопожертвование как готовность помогать другим, действовать в ущерб себе; 12. авторитетность как способность оказывать влияние на других, осуществлять власть над ними, конкурировать и добиваться успеха, победы; 13. законность как установленный государством порядок, который обеспечивает безопасность индивида, равноправность его отношений с другими; 14. вольность как архаичная «свобода от...» ограничений волеизъявлению индивида, тяготеющая к вседозволенности, но не тождественная ей. Чтобы повысить надежность эмпирических данных, было решено операционализировать ценностные понятия в виде ценностных суждений, с помощью которых можно зафиксировать
конкретные аспекты ценностного сознания в его поведенческом бытии. При этом одно суждение может заключать в себе аспекты разных ценностей. Так, суждения заботы о детях и стариках содержат аспекты ценности жизни человека и ценности семьи. В процедуру операционализации ценностей был заложен ряд методичесих принципов: 1. Принцип необходимой полноты: основные аспекты ценностей должны быть представлены в соответствующих ценностных суждениях, раскрывающих сущностное содержание ценностей; 2. Принцип бытийности: суждения должны выражать формы реального бытия ценностей, каждое должно входить в одну из четырех подсистем потребностей индивидов: витальную, интеракционистскую, социализационную, смысложизненную; 3. Принцип социокультурной альтернативности: каждый аспект ценностей должен быть представлен в виде альтернативной пары ценностных суждений, одно из которых выражает преимущественно интегрирующую, а другое – преимущественно дифференцирующую функцию на данной стадии кризиса; при этом оба суждения каждой пары следовало сформулировать в позитивной форме, поскольку речь идет о том, что люди ценят; 4. Принцип дополнительности: поскольку суждение может выражать один аспект, входящий в содержание различных ценностей, то оно может характеризовать не одну, а несколько ценностей; следовательно, суждения могут работать как источники информации о ценностях не только изолированно, а дополняя друг друга. В результате тщательной, трудоемкой работы по операционализации ценностей в ценностные суждения авторский коллектив исследования сформулировал 22 альтернативные пары суждений. Они образовали четыре подсистемы: витальную, интеракционистскую, социализационную и смысложизненную (приложение II). Первая, витальная, является исходной для всех подсистем. В нее вошли суждения, выражающие ценностные аспекты, без которых человечество не смогло бы поддержать свое существование: забота о своем здоровье, о самовыражении, о личной безопасности, о детях и стариках, о бедных и нищих. В интеракционистской подсистеме ценностных суждений нашли отражение коммуникативные потребности личности, без которых невозможны передача и обмен информацией, взаимоотношения между людьми. Это суждения относительно власти и
спокойной совести, равенства возможностей и условий жизни, путей разрешения спорных вопросов. В социализационной подсистеме представлены такие ценностные суждения, которые характеризуют предприимчивость, индивидуальность, соотнесение личной жизни с жизнью поколения, выбор страны проживания и др. Четвертую, смысложизненную подсистему образовали суждения с ключевыми словами, выражающими ценность жизни, доброты, красоты, свободы и работы. Переходя к анализу полученных эмпирических данных, прежде всего рассмотрим распространенность ценностных суждений среди двух совокупностей респондентов (основной массив и «горячие точки»). (См. Приложение III). Распространенность – это процент респондентов, одобривших данное суждение. В качестве критерия степени распространенности было принято деление 100%-й шкалы на равные 4 интервала. Ценностные суждения, соответствующие первому интервалу распространенности (1–25%), назовем суждениями явного «меньшинства». Второму интервалу (26–50%) соответствуют суждения влиятельной «оппозиции». Далее следуют «доминирующие» суждения (51–75%), характерные для большинства респондентов. Наконец, четвертый интервал (76–100%) образуют «общепринятые» суждения. «Оппозиционные» суждения неустойчивы и способны стать либо доминирующими, либо суждениями меньшинства. Различным стадиям кризиса соответствуют различия в распространенности ценностных суждений. На дестабилизационном этапе, непосредственно следующим за стабильным состоянием общества, «общепринятыми» являются такие ценностные суждения как спокойная совесть, гарантия личной безопасности, забота о стариках и детях. На второй стадии, остро-конфликтной по общественной напряженности, число «общепринятых» суждений увеличивается: кроме отмеченных, к ним добавляются значимость жизни и свободы, интересная работа, диалог. Это смысложизненные и интеракционистские аспекты ценностей. В числе «доминирующих» находятся суждения из всех личностных подсистем, они выражают аспекты как целевых, так и инструментальных ценностей. На первой стадии «доминируют» ценностные суждения с ключевыми словами: жизнь, добро, правда, красота, свобода, интересная работа, продолжение рода. Большинство доминирующих
суждений относятся к смысложизненной подсистеме. При нарастании напряженности значимость хороших отношений снижается. Доминирующими становятся равенство возможностей для проявления способностей, предприимчивость, оценка жизни по собственным критериям. «Общепринятые» и «доминирующие» суждения относятся преимущественно к интегрирующим. Из исследуемых 44 ценностных суждений 9 составляют «оппозиционные». Их количество почти не изменяется с обострением обстановки, но видоизменяется качественный состав. На обеих стадиях среди оппозиционных представлены такие суждения: соотнесение своей жизни с жизнью поколения, следование традициям и обычаям, ложь во спасение, отсутствие веры в действенность красоты. Вместе с тем, изменяется статус ряда ценностных аспектов. Возможность лишить человека жизни в зависимости от обстоятельств теперь признают уже не 23,4%, а 35,5% респондентов. Любая работа ради заработка получает меньше поддержки (снижается с 35,4% до 27,2%). Равенство возможностей для проявления способностей становится «доминирующим» (возрастает с 37% до 57%). Это свидетельствует о том, что в кризисных ситуациях каждый человек вынужден в большей мере полагаться на самого себя. Возрастает стремление индивида утвердиться: переходят в число «доминирующих» суждения инициативы, предприимчивости (с 50% до 56,8%), желания оценивать личную жизнь по своим критериям (с 44,9% до 61,6%). «Оппозиционные» ценностные суждения по определению являются преимущественно дифференцирующими. Среди них преобладают социализационные суждения, в которых получают отражение инструментальные ценности. С нарастанием напряженности повышается дифференцирующая роль ценностных аспектов, операционализированных в суждениях, где ключевыми словами являются: лишение жизни по своей воле, ложь во спасение, красота не поможет. Будучи дифференцирующими по отношению к большинству населения, эти ценностные аспекты образуют ядро смысло-жизненных аспектов, свойственных влиятельному меньшинству – оппозиции. В число суждений «меньшинства» (одобряют 1–25%) респондентов) вошли аспекты эгоизма и индивидуализма. С переходом кризиса во вторую стадию число таких суждений сокращается, но многие из них повышают свое влияние, становятся «оппозиционными». Одинаковой на двух стадиях является распространенность суждений с ключевыми словами: человек по
природе зол; благополучие, а не свобода; жить для себя, а не для потомков; успех; власть; состязательность; борьба до победы в разрешении спорных вопросов, а не диалог; равенство положения; жить как все. Если распределить суждения меньшинства по подсистемам потребностей и по социальным функциям, то на первой стадии мы обнаруживаем 4 смысложизненных суждения, 2 витальных, 5 интеракционистских, 2 социализационных; причем все они, за исключением двух, – дифференцирующие. На второй стадии: 3 смысложизненных, 5 интеракционистских и 1 социализационное; из них лишь одно интегрирующее (по определению). Дифференцирующие ценностные суждения в категории меньшинства являются специфическим интеграционным ядром, объединяющим субъектов меньшинства, их поведение и деятельность. Следующим шагом нашего анализа стало выявление качественного отношения респондентов к ценностным суждениям – одобрения или отрицания тех или иных суждений. Есть суждения, которые принимаются почти единодушно, но существуют и отрицаемые большинством, значимые для явного меньшинства. По результатам исследования суждения были разделены на две категории: «одобряемые» и «отрицаемые» (См. Приложение III). Использованная при анализе полученных данных 11-ти бальная шкала была преобразована в 3-х бальную. В категорию «одобряемых» были отнесены суждения, по которым имеется не менее чем 5%-ый перевес числа респондентов, определенно выразивших согласие с суждением (с 9 по 11 градацию шкалы), по сравнению с выразившими несогласие (с 1 по 3 градацию). Соответственно, в категорию четко «отрицаемых» вошли суждения, относительно которых «против» высказалось большее количество респондентов, чем «за» (число отметивших с 1-ой по 3-тыо градации превышает на 5% число отметивших с 9-ой по 11-ю градации). Что касается средних значений шкалы (с 4 по 8), то они выражают недостаточно определенную позицию; поэтому в данном анализе они не рассматриваются. Из исследовавшихся 44 ценностных суждений одобряются в основном массиве 72,7%, в «горячих точках» – 70,5%; отрицаются соответственно 27,3% и 29,5%. На первой стадии кризиса (дестабилизационная стадия, представленная основным массивом респондентов) в группу одобряемых попали суждения с ключевыми словами: значимость жизни, свободы, заботы о ближних и слабых, обладание спокойной совестью, решение спорных вопросов путем диалога, взаимопомощь, – всего 32 ценностных суждения,
охватывающие все 4 подсистемы (Приложение IV). Преобладающее число одобряемых суждений являются по своим социальным функциям интегрирующими. В группу отрицаемых на первой стадии кризиса попали суждения из смысложизненной подсистемы с ключевыми словами: лишение жизни по обстоятельствам; зло; благополучие, а не свобода; жить для себя, а не для потомков. В витальной подсистеме отрицаются эгоистические суждения заботы только о своем здоровье и благополучии; поиска и самовыражения даже в ущерб своему здоровью; комфорта лишь для себя. Значимость власти, трудовой состязательности, борьбы до победы, равенства положения, входящие в интеракционистскую подсистему, также отрицаются. Социализационное суждение «жить как все» также не принимается большинством опрошенных. На второй, остро-конфликтной стадии («горячие точки») отрицаемыми суждениями пополняются смысложизненная (работа ради заработка) и интеракционистская (добиваться общественного признания и успеха) подсистемы. Витальная, наоборот, дополняется одобряемыми; здесь по-прежнему отвергается первенство заботы о своем здоровье и благополучии. О высокой динамичности и противоречивости суждений в кризисном обществе свидетельствует наличие слоя суждений, почти в равной мере «отрицаемых» и «одобряемых» (различия не превышают 5%). Причем с нарастанием напряженности в обществе количество таких суждений уменьшается, но при этом меняется их качественный состав, что, возможно, является фактором повышения осознания кризисности, ресоциализации. Деление ценностных суждений на «одобряемые» и «отрицаемые» можно соотнести с типологией по критерию распространенности. В результате получим представления о наполняемости первого типа суждениями второго. Эта соотнесенность представлена в таблице 4. По определению, все «общепринятые» и «доминирующие» суждения одобряются. «Оппозиционные» суждения принимаются на первой стадии кризиса, с переходом кризиса в остро-конфликтную фазу три из них переходят в «отрицаемые». Суждения «меньшинства» составляют основную категорию отрицаемых ценностных аспектов. Но как быть с тем фактом, что в разряд «одобряемых» попадают суждения, санкционирующие лишение человека жизни? Полученные данные свидетельствуют о кризисе ценности жизни. Нелогичным является и вхождение в одну и ту же категорию ряда суждений, которые по своему содержанию
исключают друг друга. На поведенческом уровне выбор полярных по смыслу суждений ведет к противоположным ценностным ориента-циям, что, вероятно, и соответствует кризисному сознанию.
Таблица 4. Распространенность и одобраемость ценностных суждений.
Ценности обладают возможностью интегрировать индивидов, объединяя их по типу деятельности, а также дифференцировать, способствуя расслоению общества. В этом заключается альтернативный характер социальных функций ценностей в конкретных исторических условиях. На дестабилизационной стадии самую значимую альтернативную пару представляют суждения: спокойная совесть и обладание властью. В сознании людей власть несовместима со спокойной совестью. На второй стадии особую контрастность приобретает пара: обеспечение личной безопасности законом и забота самого индивида о своей жизни. С переходом в остро-конфликтную стадию возрастает альтернативность восприятия суждений. В результате начинает прослеживаться противоположность суждений интересной работы и работы ради заработка: большой заработок начинает отрицаться. Обнаруживается и альтернативность между ценностными суждениями: заботиться о своем здоровье и быть индивидуальностью даже в ущерб своему
здоровью. На первой стадии оба эти суждения отрицаются, с переходом кризиса во вторую стадию повышается интерес к своему здоровью, тем самым проявляется антонимичный смысл ценностей. Что касается разделения ценностных суждений на «одобряемые» и «отрицаемые», трудность для анализа исследователей состоит в том, что оба значения одной и той же альтернативной пары одобряются. Итак, наблюдается переход от прежней моносистемы ценностей к иной, плюральной системе естественных человеческих ценностей. Аспекты различных ценностей, представленные в предложенных респондентам суждениях, сильно переплетаются в сознании индивидов, предстают в дробном виде. Дробность выступает как одна из характеристик ценностного сознания. Этим обусловлены его неустойчивость, переходы из одной крайности в другую, функциональная нечеткость. Наряду с этим, повышение альтернативности суждений на остро-конфликтной стадии свидетельствует об осознании кризиса и начале формирования значимых для каждого ориентиров. Это является фактором ресоциализации индивидов, выработки ими конкретных установок своего поведения. Наряду с дроблением кризисного сознания между элементарными ценностными позициями постепенно формируются более устойчивые ценностные макропозиции.
5.3. Ценностные позиции Будем понимать под ценностной позицией совокупность взаимосвязанных ценностей и их аспектов, имеющую поведенчески-мотивирующий и (или) социально-функциональный смысл. При этом целесообразно различать элементарные позиции и макропозиции. Элементарная ценностная позиция – это несколько взаимосвязанных ценностных аспектов, совокупность которых определенным образом мотивирует поведение индивидов. Факторный анализ степени согласия – несогласия респондентов с предложенными им суждениями (всего их 44) обнаружил значительную дробность кризисного сознания, его разделенность между многими элементарными позициями: в основном массиве респондентов это 11 факторов – позиций (См. Приложение IV), в «горячих точках» – 13; кроме одного фактора, все они представляют именно элементарные ценностные позиции. Охарактеризуем наиболее значимые из них:
второй, третий и четвертый. Первый же фактор рассмотрим ниже, в контексте макропозиций. Второй по влиянию фактор на дестабилизационной стадии кризиса (основной массив) можно квалифицировать как позицию «потребительского эгалитаризма»: здесь максимально полно представлена ценность «благополучие для себя». На конфликтной стадии («горячие точки») этот фактор столь же весом, центральное место в нем занимает та же ценность личного благополучия, но без эгалитаристского аспекта (равенство доходов), что позволяет определить ее как «потребительский эгоизм». Ключевая для обеих позиций ценность благополучия является преимущественно отрицаемой (с тремя из четырех ее аспектов больше респондентов не согласны, чем согласны). В третьем факторе на дестабилизационной стадии достаточно полно представлена ценность следования традициям в сочетании с убеждением, что человек должен жить в той стране, где родился, – позиция «патриотичного конформизма». На конфликтной стадии в третьем факторе традиционализм оказывается в сочетании с эгалитаризмом, что позволило охарактеризовать его как позицию «эгалитарного конформизма». В четвертом факторе на дестабилизационной стадии сочетаются предприимчивость и такие цивилизационные ценностные аспекты, как готовность помочь бедным, вести равноправный диалог с оппонентом – это «цивилизованная предприимчивость» В конфликтной же ситуации нравственная предприимчивость оказывается менее значимой (здесь это фактор 7), а четвертый фактор заключает в себе существенно иную позицию – «достижительный индивидуализм». Кроме того, на дестабилизационной стадии выявлены такие позиции: прагматичный псевдогуманизм, экстравертный максимализм, властолюбивая достижительность, криминогенный негативизм и др. На конфликтной стадии обнаруживаются сходные позиции, но с более выраженным энергетическим оттенком: агрессивная конформность, агрессивное правдолюбие, стоический индивидуализм и т.п. Вводя такого рода наименования, необходимо учитывать, что тем самым каждая элементарная позиция характеризуется лишь как некое идеальное качество, к которому отнюдь не сводится реальная позиция конкретных социальных субъектов. Фактически в сознании последних представлены многообразные комбинации различных ценностных качеств, или элементарных позиций. Такого
рода плюральность или, возможно, дробность ценностного сознания наблюдается и в стабильные периоды развития общества, но особенно характерна она для кризисного его состояния. Чтобы понять динамику этого состояния, важно знать: происходит ли лишь дробление сознания субъектов между элементарными позициями или же, наряду с этим, подспудно осуществляется интеграция этого сознания, формируются макропозиции, которые упорядочивают сознание субъектов, консолидируют их в группы сознания, инициируют регенерацию общества, выход его из кризиса. Ценностная макропозиция – это совокупность взаимосвязанных ценностей, имеющая прежде всего макросоциальный смысл: функциональный или дисфункциональный, интегрирующий или дифференцирующий. Путем структурно-корреляционного анализа одобряемых и отрицаемых суждений удалось выявить[55] четыре макропозиции, обобщенно представленные на рис. 3. Сопоставимые структуры обнаружены и в «горячих точках». Три из четырех макропозиций – одобряемые, т.е. существуют на основе одобряемых ценностных аспектов (суждений), одна · отрицаемая. Среди одобряемых макропозиций одна (ΜΠ-1) является по своей социальной функции интегрирующей, а две другие (МП-2 и МП-3) – дифференцирующими: они разделяют население на группы сознания, ни одна из которых не составляет абсолютного большинства. Отрицаемая макропозиция (МП-4) является резко дифференцирующей. С нее мы и начнем более подробную характеристику макропозиций.
Рис. 3. Ценностные макропозиции (МП): основной массив респондентов. Обозначения: 1 – жизнь человека; 2 – свобода; 3 – нравственность; 4 – общение; 5 – семья; 6 – работа; 7 – благополучие; 8 – инициативность; 9 – традиционность; 10 – независимость; 11 – самопожертвование; 12 – авторитетность; 13 – законность; 14 – вольность. Основное ее содержание образуют две переплетающиеся друг с другом инструментальные ценности: «авторитетность» и «вольность», сочетающиеся с терминальной ценностью «благополучие для себя». Ключевыми здесь служат такие слова оцениваемых суждений: «оказывать влияние на других, иметь
власть», «бороться до победы», «добиваться максимального комфорта для себя», «можно самому посягнуть на жизнь другого». Все это позволило определить данную макропозицию как «властолюбивый эгоизм». Можно сказать, что это характерная для прежней России позиция: упование на авторитарную личность, принципом деятельности которой является вседозволенность. Но, вопреки расхожим представлениям, ныне это отнюдь не одобряемая, а четко отрицаемая позиция: составляющие ее аспекты отрицают 33–39% респондентов, одобряют лишь 18–23%. Правда, по ряду аспектов еще больше тех, кто занял промежуточную позицию, которая в зависимости от обстоятельств может повернуться как в одну, так и в другую сторону. В «горячих точках» в пользу различных аспектов ценности «вольность» высказались уже 32% респондентов. Реалии общественно-политической жизни России после 1990 г., когда были получены анализируемые эмпирические данные, позволяют заключить, что вирус эгоистического властолюбия с тех пор еще шире проник в политически активные слои россиян. Что же противостоит ему в ценностном сознании населения? Прежде всего две одобряемые, но тоже дифференцирующие макропозиции: «потребительский конформизм» (МП-3) и «предприимчивый нонконформизм» (МП-2). Входящие в них ценности одобряют в основном массиве 41–42% респондентов; в «горячих точках» сохранилось такое же одобрение ценностей МП-3, а ценностей МП-2 – повысилось до 50–51%. Макропозиция потребительского конформизма «заквашена» на инструментальной ценности следования традициям («жить как все») в сочетании с предпочтением хорошего заработка перед содержанием труда и готовностью принять «ложь во спасение». Ключевое суждение здесь: «Таким, какой я есть, меня сделали обстоятельства жизни». Эта макропозиция интегрирует три элементарных позиции: потребительский эгалитаризм, патриотический конформизм и ложный нонконформизм. Свыше половины составляющих ее аспектов получили больше промежуточных оценок, чем четких одобрений, хотя одобрений больше, чем отрицаний. По-видимому, это вообще промежуточная макропозиция: она служит резервом роста властолюбивого эгоизма, но может быть резервом и для иных позиций. Все зависит от динамики этих позиций, выступающих для конформистов как обстоятельства жизни, влияющие на их собственную позицию.
Явной противоположностью ей выступает макропозиция предприимчивого нонконформизма. Ядро этой позиции образуют три ценности: независимость, инициативность, нравственность. Ключевой характер имеют суждения: «я сам сделал себя», «главное – инициатива, предприимчивость», «быть готовым к равноправному диалогу с оппонентами». В основном массиве респондентов корневой для данной макропозиции служит элементарная позиция цивилизованной предприимчивости. Кроме того, она вкраплена еще в семь элементарных позиций. В «горячих точках» она интегрирует аспекты десяти элементарных позиций: нравственная предприимчивость, самодостаточный нонконформизм и др. Широкая элементная база предприимчивого нонконформизма свидетельствует о высоком интеграционном потенциале этой макропозиции. Если на дестабилизационной стадии кризиса она выполняет по преимуществу дифференцирующую функцию (распространенность ее ценностей составляла в среднем 45%), то на конфликтной стадии ее функции становятся в равной мере дифференцирующими и интегрирующими (распространенность ее ценностей повышается до 50–51%). Безусловно интегрирующей на обеих стадиях кризиса является ΜΠ-Ι – «повседневный гуманизм». Основу этой макропозиции составляют 4 ценности, весьма полно представленные и тесно связанные друг с другом: законность, семья, нравственность, жизнь человека. Этот их состав и порядок (по убыванию их распространенности) сохраняется на обеих стадиях кризиса. В среднем их одобряют на первой стадии 56%, на второй – 63,5% респондентов. Самой распространенной является инструментальная ценность законности (65% на первой стадии, 80% на второй). Три другие ценности являются терминальными; их каркас образуют суждения с ключевыми словами: «спокойная совесть», «хорошие отношения», «забота о детях и стариках», «добро», «правда», «красота». Еще 6 ценностей представлены в данной макропозиции в виде отдельных аспектов: терминальные – свобода, общение, работа; инструментальные – традиционность, независимость, самопожертвование. Узел связи между большинством суждений образует суждение с ключевыми словами «спокойная совесть». Макропозиция повседневного гуманизма составляет нравственную основу жизнестойкости всех народов России (различия между коренными и некоренными нациями находилось в 1990 г. в пределах 5–8%), предпосылку сохранения российского общества как целого. Ее интегрирующий потенциал огромен. Он образуется
прежде всего за счет самого весомого фактора 1, который имеет, по сути, статус макропозиции и потому также назван повседневным гуманизмом. Кроме того, МП-I вкраплена в 5 факторов основного массива и в 7 факторов «горячих точек». Вместе с фактором 1 их совокупная доля в общей дисперсии составляет в первом случае около 35%, а во втором – свыше 45%. Но эти цифры не должны рождать иллюзию, будто кризисное российское общество – самое гуманное в мире. Речь идет о некоторой глубинной предпосылке, общем ценностном фоне, который может активно влиять на другие макропозиции, но может и оставаться втуне. Многое зависит от общей динамики ценностей как компонентов социокультурной эволюции.
5.4. Ценности как компоненты социокультурной эволюции Приведенные выше результаты анализа эмпирических данных позволяют сформировать обобщенные представления о месте исследуемых ценностей в социокультурной эволюции российского общества. Соответствующая информация по двум массивам респондентов приведена в таблицах 5 и 6. Как видим, в сознании респондентов обоих массивов терминальные (целевые, дальние) ценности занимают верхнюю часть рангового ряда распространенности, следовательно, более высокое положение в общей иерархии ценностей, чем инструментальные. Это соответствует природе данных типов ценностей. Однако наблюдаются два исключения: инструментальная ценность законности потеснила всех и заняла лидирующую позицию (ранг № 1), а терминальная ценность благополучия оказалась в аутсайдерах фанг № 13). О смысле этих исключений скажем немного ниже, а сейчас попытаемся вникнуть в общую конфигурацию ценностей по их цивилизационной принадлежности (генезису). Из всего списка обследованных ценностей к собственно традиционным, генетически связанным с обществами традиционного типа, на наш взгляд, можно отнести следующие три ценности: традиционность, самопожертвование, вольность. Первые две выражают включенность индивида в социальную общность, подчиненность ей; третья же, напротив, протест индивида против такой зависимости, выражаемый в форме архаичной «свободы от»
ограничений любым его волеизъявлениям, тяготеющей к вседозволенности, вольнице. Напротив, свобода как «свобода для» представляет собой ценность современной цивилизации; к той же группе относятся ценности: жизнь человека, независимость и инициативность индивида, законность социального порядка и действий всех субъектов. Наряду с этим, почти половину обследуемых ценностей можно считать универсальными, характерными для любой цивилизации и культуры: общение, семья, нравственность, работа, благополучие, авторитетность. Современные ценности занимают верхнее и среднее положение в иерархии распространенности ценностей в российском обществе. Универсальные ценности расположены в верхней и нижней частях рангового ряда. А ценности, принадлежащие традиционной цивилизации, находятся в нижней его половине, но не на самом низу. Такой характер конфигурации ценностей побуждает соотнести ее с теми системными образами структуры ценностей, которые возникли в нашей социологической литературе еще в 70-х и 80-х годах. Одним из результатов исследования диспозиционной структуры личности, проведенного в 70-х годах В.А.Ядовым и его коллегами, стало обоснование представления о разделении терминальных ценностей на достаточно стабильное «ядро», образуемое ценностями высокого ранга, и менее устойчивую «периферию». В «ядро» тогда вошли такие ценности: мир и хорошая обстановка в стране (абсолютно доминирующее положение в ценностной иерархии), семья, работа, здоровье, жизнь, полная удовольствий. На «периферии» оказались: жизненная мудрость, красота, любовь, свобода, творчество и др.[56] Опираясь на этот подход, Н.Ф.Наумова по результатам своих исследований, выполненных с 1968 по 1982 гг., увидела в «ядре» приоритетные ценности, используемые предпочтительнее (чаще) других. В контексте труда (работы) человека это оказались: доброжелательное отношение, независимость, творчество, надежное будущее, хороший заработок. Около ядра располагается периферия, составляющая резерв ценностей, к которым индивид обращается реже, чем к первым: уважение людей, польза обществу, долг перед ним, не слишком тяжелый труд, профессиональное совершенствование.
Наконец, «хвост» реже всего используемых ценностей – ценностный резерв второго эшелона, или, по другой авторской гипотезе – те ценности, которые никогда не попадут в ядро: организаторские способности, чистая, спокойная, самостоятельная работа, не требующая большого умственного напряжения[57]. Образы ядра и окружающей его периферии были достаточны для характеристики системы ценностей стабильного советского общества 70-х и начала 80-х годов. Движение общественных процессов тогда имело по преимуществу характер циркулирования, воспроизводства существующих структур. Современное кризисно-реформируемое российское общество переживает распад прежнего круговорота и возникновение аттракторов, ориентирующих социум на движение к новому состоянию. В сфере сознания наблюдается, как свидетельствуют почти две трети респондентов, утрата прежних, идеологизированных общих целей, рост пессимизма, озлобленности и других негативных настроений. А что сохраняется в глубинных его слоях? Что образует терминальное, целеориентирующее ядро нынешнего кризисного сознания? Как видно из таблицы 3, на дестабилизационной стадии кризиса преобладают те терминальные ценности, которые одновременно являются универсальными, общечеловеческими, принадлежат разным типам цивилизаций. Это ценности общения, семьи, нравственности. А чуть впереди них – современная инструментальная ценность законности: не в абсолютно-правовом, а в конкретно-экзистенциальном ее смысле – как установленный государством порядок, который обеспечивает безопасность индивида, равноправность его отношений с другими (напомним, что и в 70-х годах «хорошая обстановка в стране», т.е. экзистенциально значимый порядок, занимала доминирующее положение в иерархии ценностей). Преобладание этих ценностей выражается в том, что их одобряют свыше половины респондентов, хотя и не более двух третей. Это означает также, что все эти ценности выполняют интегрирующую социальную функцию. В целом их можно охарактеризовать как интегрирующе-терминалъное ядро ценностей на первой стадии кризиса общества. Резервом этого ядра служат такие терминальные ценности как жизнь человека, свобода, работа. Они выполняют на данной стадии двойственные функции: преимущественно интегрирующие, но
Социокультурные параметры ценностей
Обозначения: Ранги (распространенность) ценностей: обобщ. – обобщенные для групп ценностей; спец.- специальные для каждой ценности; % одоб. – % респондентов, одобряющих данные ценности. Типы ценностей: термин. – терминальные; инстр. – инструментальные. Цивилизационная принадлежность ценностей: традиц. – традиционные; универ. – универсальные; соврем. – современные.
Таблица 5. (основной массив респондентов )
Социальные функции ценностей: диффер. – дифференцирующие; двойст. – двойственные; интегр. – интегрирующие; Интегр.-термин. ядро – интегрирующе – терминальное ядро. Термин. резерв – терминальный резерв. Традиц. «хвост» – традиционалистский «хвост». Меньшин. – ценности меньшинства.
Социокультурные параметры ценностей
Обозначения: Ранги (распространенность) ценностей: обобщ. – обобщенные для групп ценностей; спец. – специальные для каждой ценности; % одоб. – % респондентов, одобряющих данные ценности. Типы ценностей: термин. – терминальные; инстр. – инструментальные. Цивилизационная принадлежность ценностей: традиц. – традиционные; универ. – универсальные; соврем. – современные.
Таблица 6. (горячие точки )
Социальные функции ценностей: диффер. – дифференцирующие; двойст. – двойственные;. интегр. – интегрирующие; Ингегр.-термин. ядро – интегрирующе – терминальное ядро. Термин. резерв – терминальный резерв. Традиц. «хвост» – традиционалистский «хвост». Меньшин. – ценности меньшинства.
в ряде существенных аспектов – дифференцирующие. Соответственно такой двойственности, эти ценности получают одобрение около половины респондентов. Поскольку две из них являются современными, а третья – универсальной, они имеют возможность перешагнуть 50-ти процентный рубеж поддержки, избавиться от двойственности и стать однозначно интегрирующими. Это и наблюдается на второй, конфликтной стадии кризиса: почти все терминальные ценности повышают свой уровень распространенности и становятся интегрирующими. В состав ядра входят ценности свободы и жизни человека. Одновременно резко поднимается статус экзистенциальной законности, которая теперь становится безусловно доминирующей в иерархии ценностей, общепринятой (80% одобрения). Резерв слился с ядром, но не целиком: в ближайшем резерве осталась работа, ее статус даже немного понизился. Итак, на конфликтной стадии происходит расширение интегрирующе-терминального ядра ценностей. Хотя, казалось бы, следовало ожидать обратного – дифференциации этого ядра, поскольку в «горячих точках» наблюдается более высокий уровень социальной напряженности, чем в основном массиве. Все дело, однако, в характере напряженности в этих «точках»: это шахтерские районы, охваченные забастовками как способом давления на правительство в центре. Понятно, что такая напряженность сопровождается ростом интеграции населения в данных регионах, что и проявляется в расширении интегрирующего ядра терминальных ценностей. Что касается инструментальных ценностей, то все они (кроме законности) на обеих стадиях кризиса подразделяются на две устойчивые по составу группы. Первую из них можно назвать инструментальным дифференциалом ценностей. Она включает две пары ценностей: традиционные (самопожертвование и традиционность) и современные (независимость и инициативность). На первой стадии кризиса они выполняют преимущественно дифференцирующую социальную функцию (их
одобряют 34–44% респондентов). Но направленность этой дифференциации у каждой пары своя: традиционалистская пара ценностей группирует вокруг себя тех, кто не одобряет современные ценности, оказывается в оппозиции к ним. Напротив, модернистская пара оппонирует традиционалистским ценностям: как тем, которые расположены выше ее в иерархии распространенности (одобряемости), так и тем, которые находятся ниже ее. На второй стадии кризиса модернистская пара существенно поднимает свой статус в этой иерархии и оказывается выше традиционалистской пары, одной ногой перешагивает 50-ти процентный рубеж одобрения. Это сопровождается изменением ее социальной функции: из строго дифференцирующей она становится двойственной, включает интегрирующие аспекты. Вторая группа инструментальных ценностей представлена также парой: традиционалистская вольность и универсальная авторитетность. На обеих стадиях кризиса их социальная функция однозначно дифференцирующая, их отрицают больше респондентов, чем одобряют (это отрицаемые ценности). Их можно обозначить как традиционалистский хвост ценностной иерархии. Временами он может усиливаться (на второй стадии кризиса число одобривших вольность возросло с 23% до 32%), но в целом ему суждена роль обратного вектора, указывающего исходный пункт социокультурной эволюции, более того – роль тормоза этой эволюции. Неожиданно в этом хвосте оказалась и терминальная ценность благополучия. Как объяснить, что эта универсальная ценность, имеющая жизненное значение для каждого человека, на обеих стадиях кризиса получила одобрение лишь 23% респондентов? Следует учитывать, что все четыре суждения, с помощью которых получена информация по данной ценности, требовали от респондентов осуществить весьма сложный выбор между альтернативами ("Добиваться максимального комфорта для себя, а другие пусть заботятся о себе сами»; «Нужно благополучие, а свобода – это второй вопрос для человека» и т.п.). Многие респонденты заняли промежуточную позицию на грани между
«согласен» и «не согласен»; в основном массиве таких респондентов оказалось по всем суждениям данной ценности больше, чем высказавшихся определенно «за» или «против». Следовательно, можно полагать, что низкий процент одобрения данной ценности связан с предложенным пониманием ее как «благополучия для себя», с нежеланием делать выбор между благополучием и свободой и т.п. Это – низкое одобрение благополучия как эгоистически-материалистической ценности, а не вообще благоприятных условий жизни (последнее было бы весьма странным). Таким образом, анализ динамики ценностей по социокультурным параметрам (цивилизационная принадлежность и социальные функции) позволяет заключить: ныне российское общество находится отнюдь не в начале, а примерно в середине своего движения к современной (модернистской) системе ценностей или уже во второй половине этого пути. Универсальным и современным вектором движения служит интегрирующе-терминальное ядро ценностей, подкрепляемое терминальным резервом и модернистским инструментальным дифференциалом. Движению в этом направлении оппонируют традиционалистские инструментальные ценности, особенно их хвост, который еще пытается управлять ядром и его резервом, находящимися в голове движения.
Приложение I. Программа всероссийского исследования «Наши ценности сегодня» Из основной цели исследования – через изучение ценностей выявить характеристики кризиса – вытекали следующие задачи: (1). Зафиксировать наиболее значимые в настоящее время поведенчески-мотивирующие ценности населения России[58], их структуру и объективные функции на современном этапе социального развития России. Гипотезы: ценности поляризованы и осознаются как таковые; значительному числу людей свойственны настроения пессимизма, тупиковости дальнейшего движения, что соответствует кризисному этапу развития общества. (2). Обнаружить реальных носителей этих ценностей путем сопоставления, с одной стороны, социально-профессиональных групп, а с другой – социально-исторических групп[59]. Гипотеза: в настоящее время актуализировались, более значимы социально-исторические группы как субъекты поведенческо-мотивирующих ценностей. (3). Предложить вариантный прогноз динамики нынешней структуры ценностей. Гипотеза: или эскалация социальных
напряженностей, вызываемых полярностью ценностей, ведущая к углублению общего кризиса советского общества; или усвоение культуры диалога между социальными группами, отстаивающими полярные ценности, и формирование на этой основе новых ценностей, открывающих путь к новому ценностному консенсусу народа. Этот замысел конкретизировался в виде концептуальной блок-схемы исследования, включающей два типа исследуемых параметров: а) эмпирически фиксируемые характеристики объекта – виды объектов, структура тотального отчуждения, типы ценностей, социальных групп и деятельности; б) аналитико-прогнозируемые характеристики объекта (см. таблицу 7). После обсуждения на семинарах авторского коллектива исследователей этот замысел был развернут в концептуально-методическую схему исследования, где в качестве исходных независимых переменных принималась совокупность видов и состояний тотального отчуждения человека, обусловившая отчуждение советского общества от развития и вызвавшая его общий кризис. Была определена следующая структура вопросника (бланка интервью), с помощью которого должны быть получены основные эмпирические данные: Блок № 1: «Объективка». Он включает стандартные вопросы о социально-демографическом составе респондентов, их социально-профессиональном составе и актуальных видах их занятий (трудовых и общественно-политических). Нестандартную его часть составляют индикаторы потенциальных социально-исторических групп (специальный подблок). Блок № 2: «Виды и состояния отчуждения». В качестве базовых принимаются 7 видов отчуждения, зафиксированных ранее в «Концептуальной блок-схеме исследования». Каждый из них желательно отобразить в трех измерениях: а) конкретные эмпирические проявления; б) динамика этих состояний за последние два-три года (стало лучше или хуже); в) оценки возможностей субъекта преодолеть эти проявления (фиксация состояний отчуждения).
Таблица 7. Концептуальная блок-схема исследования
Блок №3: «Состояния кризисного сознания». Необходимо зафиксировать эмпирические проявления состояний сознания по трем основным стадиям развития кризиса как социального процесса: 1) дестабилизация, предконфликтное состояние (распространяются ощущения безысходности, тупиковости жизни на всех уровнях – от индивида до общества); 2) остро-конфликтное состояние (каждая сторона сформировала свой «образ врага» и знает, что следует делать для нанесения ущерба противоборствующей стороне); 3) разрешения, исходы кризиса: а) неуправляемое движение к катастрофе; б) стабилизация через институционализацию конфликтов как способа управляемого развития; в) нормализация путем диалога и достижения нового консенсуса; г) «откат» назад, к исходному, докризисному состоянию. Блок № 4: «Альтернативные ценности». Следует в позитивно-альтернативной форме зафиксировать два наиболее значимых для целей исследования типа ценностей: преимущественно интегрирующие и преимущественно дифференцирующие. Их дихотомия пронизывает четыре основные группы ценностей: смысложизненные, витальные, интеракционные, социализационные. Блок №5: «Предпочитаемые типы занятий». Это заключительный блок вопросника. В нем речь идет о том, какие виды занятий предпочитают респонденты не вообще, а в конкретной нынешней исторической ситуации, в условиях новых возможностей, открываемых перестройкой (но именно в той мере, в какой эти возможности действительно открываются). Необходимо зафиксировать предпочтения относительно занятий в четырех областях: 1) труде; 2) общественно-политической деятельности, в том числе в связи с выборами в республиканские и местные Советы; 3) рекреации; 4) другие. Структура получаемых эмпирических данных представлена в таблице 8. Кроме того, были сформулированы Указания к получению необходимых статистических данных и к последовательности аналитической работы со всеми эмпирическими данными, т.е. сформулирован эскиз программы их теоретического анализа. Эта программа включала несколько стадий описания реальности (реконструирующий анализ) и прогноза вариантов ее ближайших изменений (прогностический анализ).
Эта подготовительная работа была завершена в декабре 1989 г. Затем, в январе – мае 1990 г., велась методическая работа по созданию самого вопросника (бланка интервью). Первоначальный замысел предполагал разработку компактного вопросника: 25–30 вопросов, не считая «объективки». Но это оказалось нереальным. Изложенная выше структура бланка интервью потребовала свыше 200 вопросов – на грани возможного для такого жанра опроса как интервью. Центральным и наиболее сложным при подготовке бланка интервью стал блок № 4 «Альтернативные ценности» – та специфическая призма, сквозь которую авторы как раз и намеревались выявить социально-духовные грани кризиса советского общества. Для этой цели недостаточны существующие, известные в литературе перечни ценностей и их типологии: их построение по сферам общественной жизни или областям интересов людей (экономика, политика, наука и т.д.); их деление на терминальные (целевые) и инструментальные и др. Поскольку речь идет об общем кризисе, сущность которого составляет тотальное отчуждение человека, то сам набор ценностей представлялось формировать с учетом таких универсальных оснований поведения человека, связанных с его потребностями, как витальные, интеракционистские, социализационные, смысложизненные ценности. Для понимания социетальных аспектов кризиса весьма значимо деление ценностей на интегрирующие (универсальные) и дифференцирующие (партикуляристские) поведение людей в обществе. Очень существенно также выяснить, какие ценности одобряются, какие преимущественно отрицаются, а какие оказываются промежуточными (маргинальными) в кризисном социуме, на разных стадиях кризиса. Для этого недостаточно ориентироваться на чисто эмпирическое распределение ответов («согласен», «не согласен», «колеблюсь»), необходимо ввести теоретически обоснованные альтернативные пары ценностных суждений, при этом каждое суждение должно иметь позитивную формулировку. Эти и другие вопросы построения ценностного блока детально и неоднократно обсуждались авторским коллективом. Поэтому сформулированный список альтернативных ценностных суждений (см. Приложение II) является результатом творчества всего коллектива. Наиболее значительный вклад в создание этого блока вопросов внесли: Г.М.Денисовский, П.М.Козырева (выдвижение
Структура получаемых эмпирических данных
Таблица 8. (Приложение к концептуально-методической схеме )
альтернативных суждений для многих пар, окончательная формулировка всех суждений, определение порядка их предложения респондентам в бланке интервью – не в альтернативной форме, и не по группам), А.Г.Здравомыслов (теоретико-методологические критерии отбора ценностей), В.Ю.Копылова (выдвижение ряда ценностных суждений, пилотажная их апробация), Н.И.Лапин (структурирование ценностей как интегрирующих и дифференцирующих, основания их деления на четыре группы), М.А.Макаревич (выдвижение ряда ценностных суждений), Н.Ф.Наумова (альтернативный принцип построения, выдвижение ряда ценностных суждений). Не останавливаясь на каждом из других блоков вопросника, отметим, что по инициативе Г.М.Денисовского, П.М.Козыревой и В.В.Колбановского в них были включены свыше 30 вопросов из вопросников, подготовленных Институтом социологии АН СССР при проведении сравнительных международных исследований. Это повысило значимость исследования ценностей в кризисном социуме, позволив органически сопоставлять его результаты с результатами других исследований[60]. Методологическая «доводка» всего текста вопросника, его представление в соответствии с требованиями машинной обработки данных выполнены Г.М.Денисовским и П.М.Козыревой. Они же, вместе с другими специалистами ИСАН, предложили репрезентативную для РСФСР выборку, включающую все виды населенных пунктов, вплоть до глухих деревень. Согласно этой выборке, достаточно опросить 1000 респондентов из 12 регионов. Кроме того, были добавлены 3 «горячие точки» – около 450 респондентов (см. Таблицу 9). Трудоемкая работа по организации и проведению полевых исследований была выполнена сотрудниками, аспирантами и студентами-старшекурсниками социологического факультета МГУ (организаторы – С.В.Туманов, Б.Г.Григорьев). Во второй половине июня – первой половине июля 1990 г. были получены личные интервью по месту жительства от 1418 респондентов (973 чел. – основная выборка, 445 чел. – «горячие точки»). Несмотря на большой объем каждого интервью качество ответов на вопросы в целом оказалось удовлетворительным, процент «нулевых ответов» в норме; однако, при ответах на последнюю зреть вопросов
ценностного блока и в конце всего интервью у части респондентов наблюдалась усталость. По большинству параметров (поп, возраст, национальность и др.) массив опрошенных соответствует статистическим данным[61]. Лишь удельный вес интеллигенции оказался существенно выше статистического; чтобы достичь соответствия, была проведена процедура «перевзвешивания» массива.
Таблица 9. Выборка регионов РСФСР
Математическая обработка полученных данных на ЭВМ была проведена в вычислительном центре Института социологии АН СССР (А.О.Крыштановский, И.Я.Миндлин). Наиболее сложным оказался анализ 22-х пар альтернативных ценностных суждений – самих по себе и во взаимосвязи с другими переменными: были применены методы факторного анализа, исследованы парные корреляции таблицы размерностью 44×44, осуществлен структурно-корреляционный анализ взаимосвязей внутри каждой из двух групп ценностных суждений (одобряемых и отрицаемых). Эта работа, во многом нестандартная, потребовала значительного времени: она проводилась с осени 1990 г. до середины 1991 г. Результаты исследования «Наши ценности сегодня» доложены и обсуждены на заседании Бюро Отделения философии, социологии, психологии и права РАН, на I съезде Российского общества социологов, на научных семинарах в Институте философии, Институте психологии, Институте экономики, Институте народохозяйственного прогнозирования РАН, на международной конференции по теории систем в Вене. Они частично опубликованы в ротапринтом сборнике «Ценности социальных групп и кризис общества» (М., ИФАН, 1991) и в журнальных статьях.
Приложение II. Таблица 10. Список альтернативных ценностных суждений
Приложение III Таблица 11. Распространенность и одобряемость ценностных суждений
Обозначения: первая колонка – номера ценностных суждений, соответствующие их списку в приложении II % согл. – процент респондентов, определенно выразивших согласие с данным суждением (9–11 позиции по 11-бальной шкале) Распр. – ранг распространенности согласия с данным суждением в обследуемой совокупности: 1 – общепринятое суждение (согласны свыше 75% респондентов) 2 – доминирующее суждение (согласны 51–75% респондентов) 3 – оппозиционное суждение (согласны 26–50% респондентов) 4 – суждение меньшинства (согласны менее 26% респондентов) Одобр. – ранг одобрения данного суждения в обследуемой совокупности: 1 – одобряемое суждение («за» больше, чем «против») 2 – отрицаемое суждение («против» больше, чем «за») Q – коэффициент интенсивности связи между числом одобряющих и отрицающих альтернативные суждения внутри каждой пары (таблица 11).
Приложение IV. Таблица 12. Элементарные ценностные позиции (основной массив, 11 факторов, 54% дисперсии)
Глава 6. Кризисные этносыТотальное отчуждение, контрасты духовного освобождения, дилеммы и тупики авторитарного управления, дефицитная экономика и постоянное нарастание социальной напряженности глубоко потрясли всю национально-этническую систему советского общества. Однако, следует отметить, что эта система носила в себе глубокие внутренние противоречия, порожденные самой этно-национальной структурой общества: наличием огромного разнообразия этносов, различающихся исторической судьбой, численностью, по языку, культуре, религии и т.д. Возникший в 1922 г. СССР к концу 30-х годов фактически сложился как унитарное государство и стал в сущности на мировой арене правопреемником бывшей царской России. Своеобразие Российской империи заключалось в том, что великодержавные амбиции ее правящих кругов осуществлялись не столько за счет ограбления завоеванных и добровольно присоединившихся народов, как это было в большинстве имперских образований подобного типа, сколько за счет эксплуатации экономических и людских ресурсов самого русского народа. В условиях революции и гражданской войны идея мессианства была по-своему трансформирована и переработана В.И.Лениным и включена в теорию пролетарского интернационализма. Говоря о роли России в мировой революции, В.И.Ленин писал, что «пролетарский
интернационализм требует, во-первых, подчинения интересов пролетарской борьбы в одной стране интересам этой борьбы во всемирном масштабе, во-вторых, требует способности и готовности со стороны нации, осуществляющей победу над буржуазией, идти на величайшие национальные жертвы ради свержения международного капитала»[62]. В 20–40-е годы эта идея была воплощена в действительность. В процессе социалистических экспериментов русскому народу пришлось действительно пойти на величайшие жертвы как в прямом смысле, так и в плане утраты многих этнических и, в особенности, духовных ценностей. В годы второй мировой войны русский народ понес огромные потери. Репрессиями и войной был подорван в сильной степени генофонд русского этноса. В послевоенный период русский народ по-прежнему нес на себе крест интернационалистского мессианства во всем мире, исполняя роль старшего брата в отношении других народов внутри страны. Все это оказалось непосильной ношей даже для такого макроэтноса как русский народ. Наряду с другими бедами, которые принесла народу тоталитарная система, выполнение интернациональной задачи по внедрению социализма в национальных окраинах и в различных регионах мира еще сильнее подорвало экономический и социокультурный потенциал русского народа, вызвав в нем глубокий социальный и моральный кризис. Сходная судьба у белорусского, украинского и некоторых других численно больших народов, ставших донорами социалистического строительства.
6.1. Типология малочисленных народов и проблемы их социокультурного развития Проблемы преодоления кризисных явлений у русского и других крупных этносов, имеющих свою государственность, – особая тема исследования. В настоящей главе речь пойдет не о них, а о тех этносах, которые в силу своей малочисленности или других причин, не создали своих государственных или иных организованных структур. Состояние этих этносов в современных условиях вызывает особую тревогу. В результате обострившихся межнациональных конфликтов эти этносы оказываются практически беззащитными. Плачевное
экономическое, политическое положение малых народов и национальных меньшинств, их низкий культурный уровень есть результат накопления кризисных явлений в системе национальных отношений, где они выражены наиболее рельефно. В этой связи речь идет не только о сохранении экономической и духовной энергии того или иного малочисленного этноса, но и о его физическом выживании. Таким образом, под кризисными этносами мы понимаем такие народы, которые в процессе развития общества как определенной системы были поставлены перед дилеммой – быть или не быть им самостоятельными демографическими или социокультурными общностями. В этой связи в настоящей главе будут рассмотрены проблемы, наиболее рельефно отражающие кризисное состояние социально-демографической структуры малочисленных народов, их языков, тех аспектов культуры, которые в совокупности составляют этническую специфику этих народов. Разрушение традиционной культуры, резкое сужение сферы применения родного языка, крушение этнических ценностей и смена ориентаций, стрессовое состояние этнического сознания – вот основные показатели кризисности этнического в образе жизни малочисленных народов. Прежде, чем перейти к анализу конкретных проблем малочисленных народов и национальных меньшинств, остановимся на некоторых теоретических вопросах изучения этих типов этнических общностей. Термин «малые» или «малочисленные» народы до последнего времени сравнительно редко употреблялся в обществоведческой и политической лексике. В ходу были такие категории как «социалистические нации» и «социалистические народности». Различия их заключались, по мнению некоторых авторов (А.Агеев, М.В.Куличенко, И.П.Цамерян и др.), в чисто количественных характеристиках: советские народы численностью до 80–100 тыс. считались социалистическими народностями, а остальные · социалистическими нациями. При такой примитивной градации не учитывалось огромное разнообразие этнической структуры советского общества, внутренней композиции и архитектоники этносов, их места и роли в функционировании всей системы национальных отношений. Кроме того, по мнению тех же авторов, социалистические народности, достигнув в своем социальном развитии параметров социалистического общества, являют собой образец некапиталистического, а затем и социалистического развития, для
стран третьего мира. К сожалению, подобные, далекие от реальности представления носили официальный характер и препятствовали формированию научного взгляда на предмет. И сейчас назрела острая необходимость объективного анализа проблем малых народов, как на обществоведческом, так и на политическом уровне. Вычленение малочисленных народов в качестве самостоятельного объекта внимания объясняется спецификой их положения в системе национальных отношений, обусловленной не только их количественными (малочисленность), но и качественными характеристиками. Кроме того, анализ различных сфер жизнедеятельности малочисленных народов необходимо вести с учетом того, что вся система национальных отношений в обществе основана на сложной опосредованной детерминации. В системе национальных отношений любые серьезные изменения на макроуровне неизбежно ведут к изменениям на всех уровнях взаимодействия малых этносов как с макросистемой в целом, так и между собой, если эти взаимоотношения опосредуются макросистемой[63]. Следует отметить, что и сами этносы, в том числе и малочисленные, представляют собой взаимодействующую совокупность подсистем второго и третьего порядка. Этническую систему как подсистему макросистемы можно рассматривать как образование, в котором связи компонентов (социальных групп, территориальных общностей, микроэтносов) между собой преобладают над результатами внутрисистемных движений этих компонентов и внешних воздействий на них. Этническая система, как любая другая, характеризуется координацией и субординацией своих частей. В ее рамках можно обнаружить иерархическое строение внутриэтнических связей. Само же взаимодействие таких иерархически расположенных микроэтносов становится возможным, когда они не только взаимообусловливают друг друга, но и находятся в определенном соподчинении[64]. Очевидно, задача познания и регулирования этнических процессов не разрешима без выявления и изучения связей (внутриэтнических и межэтнических), особенно «системообразующих» (социальная организация, язык, базовые культурные черты). Ибо каждый относительно обособленный фрагмент этнической системы значим и функционален лишь в
связи с такими фундаментальными началами. Поэтому социально-этнические связи малых народов следует рассматривать в контексте национальных отношений, существующих в обществе. Взаимосвязь различных структурных элементов этносов, будучи объектом исследования, оказывается в этом случае вписанной в целостную структуру советского общества и соотносимой с ней в процессе объяснения. При комплексном исследовании процессов развития малочисленных народов в системе национальных отношений необходимо также упорядочить множество элементов различных типов, как этнических, так и межэтнических связей, т.е. провести их типологию по основаниям количественного состава и внутренней структуры. Это непременное условие анализа малых народов как объекта исследования. Простого перечисления составных частей для понимания функционирования системы межнациональных отношений оказывается недостаточно, так как совокупность компонентов, их взаимодействие порождает новое качество (ассимиляцию, аккультурацию), которого нет у части (отдельного этноса), взятой в отдельности. Поэтому, анализируя социальные и этно-культурные связи малых народов между собой, с большими народами, а также с обществом в целом, следует выявить узлы межэтнического взаимодействия в основных сферах социокультурной жизни. Тем самым предоставляется возможность выхода на анализ межсистемных отношений в рамках макросистемы. Межсистемное взаимодействие отдельных этнических компонентов и дает новое социальное качество. Рассмотренные выше теоретические посылки важны для типологии малых народов по качественным параметрам. Малочисленные народы различаются между собой не только количественными характеристиками, но и внутриэтнической композицией, степенью вовлеченности в межсистемные связи, пропорциями внутрисистемных компонентов, уровнем взаимодействия с макросистемой, количеством уровней внутриэтнической иерархии. Прежде чем перейти к типологии малочисленных этносов, рассмотрим такое понятие как «этническая среда». Этническая среда – это совокупность исторических и политических взаимосвязей одного или нескольких этносов, в социально-экономическом и культурном отношении составляющих определенный тип социально-исторической системы большей или меньшей структурно-функциональной сложности. Это в полном смысле автогенное общественное образование, имеющее свое этническое окружение. Через
понятие «этническая среда» мы можем определить такие характеристики этноса, как его масштабность и демографическая плотность, пространственная непрерывность или дискретность, этнокультурная целостность или мозаичность. На основе совокупности качественно-количественных характеристик можно выделить среди малочисленных народов следующие типы этнических общностей: 1) Интегрированные этносы – совокупность людей, обладающих наибольшей выраженностью этнических свойств и выступающих в качестве этнических отдельностей, т.е. не являющихся подразделениями других, более крупных этнических образований. Эти этносы имеют большую демографическую плотность, пространственную непрерывность, этно-культурную целостность, высокую внутриэтническую коммуникабельность и как следствие этого, стабильно высокий уровень этнического самосознания. Они обладают наиболее высокой устойчивостью (резистентностью) по отношению к воздействию на них макросистемы, сохраняя свои обычаи и традиции, этнические ценности. К числу таких этносов принадлежат, например, народы Дагестана, Памира, а также ряд малочисленных народов Закавказья и Средней Азии. 2) Этнические единицы составные части больших народов (наций), пространственно отделенные в процессе исторического развития от своей этнической среды и представляющие собой национальные меньшинства в регионах своего расселения. Эти этнические группы интегрированы экономически и социально в межнациональные региональные сложнокомпонентные подсистемы. Взаимодействие этнических компонентов в таких подсистемах порождает множество проблем и противоречий, становящихся часто причиной конфликтов на межнациональной почве. Выделенная группа малых этнических общностей · самая многочисленная из всех малых народов, так как очень многие большие народы имеют группы, проживающие за пределами их этнической среды. 3) Субэтнические подразделения · общности, у которых этнические свойства выражаются с меньшей интенсивностью, чем у основных этнических типов и которые являются их составными частями. Существование субэтносов связано с наличием и осознанием частью этноса своих групповых особенностей, тех или иных компонентов культуры. Происхождение таких групп далеко не одинаково. В одних случаях – это бывшие этносы, постепенно утратившие роль основных этнических подразделений, в других – бывшие этнографические группы, осознавшие свою общность, в-третьих,
социальные общности, обладающие специфическими чертами культуры (например, донские казаки). Могут быть выделены малые субэтносы хозяйственно-культурного, лингвистического и административно-территориального происхождения. Зачастую субэтносы выступают как зоны этнической непрерывности между двумя родственными этническими средами. Так, например, полещуки и пинчаки представляют собой малые этнические группы белорусов, впитавшие в себя многое от украинской культуры и имеющие особый диалект, значительно отличающийся; как от белорусского, так и от украинского языка. Такого рода субэтносы функционируют не только у восточно-славянских народов (кроме полещуков и пинчаков – бойки, лемки, гуцулы), но и у тюркских и других народов. 4) Дезинтегрированные этнолингвистические общности. Для этого типа малочисленных этносов характерны: малая демографическая плотность, дисперсность расселения, пространственная дискретность, этно-культурная и диалектная мозаичность, слабая внутриэтническая коммуникабельность, слабо выраженное или вообще отсутствующее общеэтническое самосознание. Представители этих народов рассредоточены мелкими изолированными группами на значительном пространстве, живут чересполосно с этническими группами иного происхождения, а поэтому в своей этнодемографической и социально-культурной массе слабо интегрированы или вовсе дезинтегрированы. К числу таких этносов относится большинство малых народов Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока. Например, эвенки заселяют огромные пространства тайги между Енисеем и Охотским побережьем, говорят на различных диалектах и единого организованного этноса не составляют. В данном случае можно говорить о дезинтегрированной этнолингвистической общности эвенков и их своеобразной этноисторической среде на всем указанном пространстве. Таким образом, малочисленные народы по своим этнодемографическим характеристикам принадлежат к различным типам этнических общностей. Тип этнической общности того или иного малочисленного народа влияет на его место в системе национальных отношений, определяет его функциональную роль в структуре социальных связей народов, место в межнациональном разделении труда и т.д. Следует однако заметить, что разнотипность малочисленных народов, в общем, не отразилась на их месте в социально-административной организации советского общества. За исключением некоторых народов Севера (о них речь пойдет ниже)
малочисленные народы других типов не имели политико-административных образований, адекватно отражающих этническую структуру регионов их проживания. Это обстоятельство постоянно усугубляло проблемы и социального, и культурного развития малочисленных этносов в системе национальных отношений СССР. Каковы же основные проблемы социального и культурного развития малочисленных народов России и некоторых других стран СНГ в современных условиях? Прежде всего следует рассмотреть те из них, что обусловлены межнациональным разделением труда и процессами аккультурации и ассимиляции. Основным источником проблем социального развития малочисленных народов является их место в системе общественного разделения труда. В этой сфере социально-экономических связей в обществе сохранились и даже усилились напряжения, характерные для Российской империи: отчуждение результатов труда от их производителей, сохранение контраста между центром и периферией в общественном разделении труда, низкий уровень технической оснащенности производства. Малочисленные народы разных типов занимают различное положение в межнациональном разделении труда. Так, славянские и тюркские субэтносы по своей трудовой специализации и социальной структуре мало чем отличаются от основных этносов. У народов Севера, Дагестана, Памира доминируют традиционные виды и формы хозяйства, что в условиях современного разделения труда обусловливает отставание этих народов по всем показателям социального и культурного развития. Особо следует сказать о социальном положении национальных меньшинств, проживающих в иноэтнической среде. Предоставление социальных преимуществ коренным национальностям в бывших союзных и автономных республиках привело во многих регионах к нарушению принципа распределения трудовых обязанностей по способностям, оттеснению малочисленных групп некоренного населения различной этнической принадлежности в сферы непрестижного, малоквалифицированного и малооплачиваемого труда. Межнациональная конкуренция, выражающаяся в межгрупповой борьбе за «выгодное» место в системе разделения труда, наблюдается и в крупных городах, и в регионах с многонациональным населением. Как показывают социологические исследования, наиболее привлекательными для национально-групповой экспансии стали сферы управления, высшей школы, науки, торговли. Как правило, в этих сферах национальные
меньшинства и малочисленные этносы представлены слабо или вовсе не представлены. В некоторых регионах доля лиц, принадлежащих к малочисленным народам, занятых неквалифицированным физическим трудом (уборщицы, грузчики, подсобные рабочие и т.д.), в структуре занятости постоянно растет и значительно превышает средние показатели по регионам проживания. В значительной мере ущемлены интересы национальных меньшинств и малочисленных народов и в системе образования, которая является важнейшим фактором социальной мобильности. В этой ситуации возникает межличностная и межгрупповая конкуренция за места в вузах, аспирантуре, в учреждениях управления, в научно-исследовательских институтах, творческих союзах и т.п. В большинстве регионов это соперничество заканчивается не в пользу национальных меньшинств. Проблемы, возникающие в процессе комплектования социальных групп, занятых преимущественно умственным трудом, находят большой отклик в среде молодежи национальных меньшинств, которая особо чувствительна к любым проявлениям социальной дискриминации в национальных отношениях. Для их протестов есть основания. Так например, в 1987 г. в вузах Алма-Аты казахи (в основном выходцы из Южного Казахстана) составляли от 73 до 90% студенческой молодежи, русские от 18 до 6,1%. Следует при этом отметить, что Казахстан – многонациональная республика, где кроме казахов, составляющих по последней переписи 42% всего населения, и русских живут национальные меньшинства, составляющие в совокупности четверть населения республики. Однако, в вузах Казахстана их было всего 1,5–3,5%[65]. В условиях нарушения прав национальных меньшинств молодежь может аккумулировать негативные стереотипы представлений о больших и малых народах, об их месте в обществе. Исходя из того, что национальные меньшинства и малочисленные народы, не имеющие своих территориально-политических образований, в большинстве регионов СНГ неадекватно представлены в профессиональной структуре населения, на наш взгляд, необходимо ввести институт социальной поддержки профессиональных прав указанных народов. В отношении запросов в сфере образования и выбора профессии представителям этих национальностей в данный момент следует создать более благоприятные условия, чем есть в большинстве бывших республик. В этом плане
можно использовать опыт других стран (США, Канада, Бельгия, Швейцария, Финляндия). Например, в США успешно действует в ряде штатов «Программа позитивных действий», согласно которой черные и цветные американцы имеют преимущества при поступлении в учебные заведения и найме на работу. По данным статистики в настоящее время среди народов СНГ наиболее остро нуждаются в такого рода программе народы, не имеющие своих национально-государственных образований – уйгуры, дунгане (хуэй), белуджи, курды и др. Таким образом, в межнациональном разделении труда сложилась проблемная ситуация. В каждом регионе асимметрия распределения больших и малочисленных народов в трудовой сфере имеет свою специфику, выявляемую с помощью конкретного и исторического анализа. Шаблонный подход к изучению и практическому решению социальных проблем развития всех малочисленных народов не даст, как и не давал в прошлом, позитивного результата. Ведь напряжения во взаимодействии малочисленных этносов разных типов с макросистемой имеют разные векторы. Однако есть и проблемы развития социальной структуры малочисленных народов, значимые для всех их типов. Это, в первую очередь, касается проблемы равенства политических прав и возможностей выбора в сфере культуры для представителей любой национальности в каждой республике, в каждом регионе. А теперь рассмотрим проблемы культурно-языкового развития народов России и некоторых других стран СНГ. За годы Советской власти почти у всех малочисленных этносов была ликвидирована массовая безграмотность, сформированы национальные кадры гуманитарной и творческой интеллигенции. У 23-х народов Сибири, Дальнего Востока, Европейского Севера, Поволжья и Северного Кавказа, не имевших до революции своей письменности, были созданы учебники родного языка для всеобуча, а позднее на языках этих народов стали издаваться газеты, журналы, художественная литература. Вместе с тем, уже в те годы в культурном строительстве у малых народов СССР были заложены те проблемы и недостатки, которые как бы «выстреливают» в современность. Так, в процессе ликвидации неграмотности значительная часть учителей прошла ускоренную подготовку лишь на трех-, шестимесячных и годичных курсах. Выпускники этих краткосрочных курсов в своем большинстве впоследствии получили заочное высшее образование. По подобного рода ускоренной схеме сформировались национальные кадры и в других сферах культурной
жизни малых народов. Зачастую не приобретая и малой доли необходимых знаний и навыков, люди становились учителями, работниками сфер управления, учреждений культуры, а их ученики – выпускниками средних школ. Они резко снизили уровень вузовского преподавания. Этот уровень несколько повысился только в 60–70-е годы, но преодолеть общее отставание, очевидно, удастся не скоро. В 30-е годы были заложены и другие социально-политические факторы, которые привели к крупным просчетам в культурном строительстве. Так, за короткий срок (с 1929 по 1940 год) таджики, узбеки, татары, башкиры и другие народы Кавказа и Средней Азии меняли свою письменность: перешли от арабского алфавита к латинскому, а потом к кирилице. Но перешли без всякой подготовки, в результате чего оказались полностью отрезанными от традиционной национальной художественной и научной литературы, литературного языка. Более того, в течение 15 лет уничтожались древние рукописи и дореволюционные литографированные издания, объявленные религиозными, а потому вредными. По тем же причинам было уничтожено много архитектурных памятников, представляющих историческую ценность. Однако, наибольший урон культурному строительству в стране нанесли эмиграция русской и национальной интеллигенции и репрессии по отношению к ней. Выходцам из среды дореволюционной интеллигенции с самого начала советской власти начинают чинить препятствия при поступлении в высшие учебные заведения. И это продолжалось вплоть до совсем недавнего времени. Если в отношении русской интеллигенции высказывались опасения в том, что она своими «шаткими» идеологическими позициями нанесет вред революционному классу, то вся дореволюционная национальная интеллигенция огульно обвинялась в реакционности и национализме. Естественно, старая национальная интеллигенция не участвовала в культурной революции, лучшие ее представители были постепенно уничтожены. Утратой многих связей с вековыми культурными ценностями объясняется, в частности, и низкая языковая культура всех последующих поколений советской интеллигенции. Примитивизм все глубже проникает в образ мышления, снижает культуру устной и письменной речи, притупляет чувства языка, приводит к грубейшим нарушениям его закономерностей – в словообразовании и в словосочетании, в синтаксических конструкциях и т.д. Об этих общих для всех народов бывшего СССР
проблемах, имевших до революции национальную письменную культуру, пишут таджикские, узбекские, татарские, грузинские литературоведы. Репресии против интеллигенции, насаждение государственным руководством среди народов чуждых им идеологических и поведенческих стереотипов мешали их культурному развитию. Многие из них начали деградировать. Культурная жизнь наций и народностей была забюрократизирована и монополизирована государственными учреждениями. Регламентации посредством постановлений подлежали искусство, наука, религия. К моменту принятия Конституции 1936 г. по сути дела был завершен и еще один, негативный для национальных культур процесс – унификация их проявлений путем идеологизации. Этот процесс надолго задержал развитие всех национальных культур. Как показывает анализ развития культур малочисленных этносов за более чем семидесятилетний период, корни ряда сегодняшних проблем в сферах языка и культуры уходят ко временам Российской империи. Далее последовала цепь ошибок в советский период. Она усугубила уже существовавшие проблемы и добавила немало новых. Напряжения в сфере взаимодействия национальных культур и спонтанно возникавшие конфликтные ситуации жестко подавлялись. Все это вело к накоплению нерешенных, загнанных вглубь проблем. Значительные разрушения национальных культур произошли под влиянием аккультурации широких слоев населения, принадлежавшего к ним. Под аккультурацией понимаются такие социокультурные процессы, в результате которых представители того или иного народа, утратив свою традиционную этническую культуру и родной язык, так и не приобщаются к какой-либо другой национальной культуре, к ее ценностям. Носителями, субъектами аккультурации стали так называемые маргинальные слои и мигранты. В процессе миграции населения со своей этнической территории, вызванной экстенсивным развитием экономики страны, образуется масса людей, которая, с одной стороны, теряет основополагающие черты своего этноса, а с другой – еще не приобрела устойчивых свойств сложившихся сообществ. Именно эта группа, значительную часть которой составляют малоквалифицированные (в том числе и сезонные) работники преимущественно физического труда, образует питательную почву для появления национальной напряженности, обостряя проблему взаимодействия культур, двуязычия, контактов местного и приезжего населения. Особенно
много маргиналов среди так называемого русскоязычного населения Прибалтики, Средней Азии и Закавказья. После провозглашения независимости государств этих регионов положение русскоязычных сообществ стало особенно тяжелым, что вызвало их массовый выезд в Россию. Только за 1990–1992 гг. в Россию выехало свыше 500 тыс. мигрантов. Как показывают исследования, и в России мигранты не везде получили возможность для реализации национально-культурных запросов, особенно в сфере образования, общения, народного творчества, а также для создания очагов национальной культуры, использования средств массовой информации, свободного вероисповедания. Взаимодействие приезжего и коренного населения в сфере культуры, по данным социологических исследований, имеет два аспекта. С одной стороны, возникают реакции неприятия у местного населения, если мигранты не обладают достаточной культурой общения, не уважают их традиции и обычаи. С другой – трудности в культурной адаптации вновь прибывших, которые нередко замыкаются в своих сообществах, не изучают местного языка, жалуются на дискриминацию. Кроме того, при исследованиях выявилась острая реакция местного населения на то, что немалую часть приезжих составляют люди, поведение которых близко к антисоциальному – «летуны», «бичи», «бомжи» и т.д. Нередко именно по ним формируются представления коренного населения о народах, с которыми оно прежде не имело непосредственных контактов. Положение усугубляется и тем, что в ряде мест все более распространяются аномические тенденции, девальвировались социально-интегративные ценности, базирующиеся на взаимной доброжелательности, готовности придти на помощь, терпимости и т.п. (эти ценности в большей мере сохраняются у коренных малых народов, например, на Севере). В результате – возрастание напряжения между объективным процессом унификации, вызванной процессами модернизации, и стремлением сохранить традиционные ценностные ориентации в национальных отношениях. Это ведет к распространению антиобщественных проявлений и националистических движений. Реализация правительственной национальной политики России – развитие национальных языков при одновременном распространении русского языка как средства межнационального общения – не была успешной. В 70-е годы наметилась тенденция увеличения удельного веса свободно владеющих русским языком среди лиц нерусской национальности. Вместе с тем обнаружилось, что, во-первых, каждый третий человек нерусской национальности не
владеет им свободно, а во-вторых, распространение русского языка среди коренных национальностей автономных республик, других этнических образований происходило неравномерно. Поэтому актуальной стала задача качественного пересмотра концепции двуязычия, особенно в сельских районах. Скорее всего не должно быть какой-то единой мерки для всех автономий России, а соотношение функций русского и местных языков необходимо устанавливать с учетом конкретной этноязыковой ситуации в каждой республике. Совершенно очевидно, что это соотношение будет разным в Карелии, Татарстане и Дагестане. Еще сложнее обстоят дела с изучением национальных языков и распространением национально-русского двуязычия и многоязычия. В идеальной модели двуязычия, предложенной лингвиста и, основной акцент делается на овладении русскими и лицами других национальностей языками коренных жителей автономных республик. Это улучшает межличностные отношения, способствует адаптации к иноэтнической среде. Следует заметить, что реализация принципа двуязычия в ряде районов наталкивается на значительные трудности. В ряде республик (Башкирия, Мариэл, Мордовия, Удмуртия и др.) применение национальных языков в различных сферах государственной, общественной и культурной жизни ограничено. Значительная часть интеллигенции республик и округов России не может свободно изъясняться и писать на родном языке. В то же время, как показывает опыт, национальный язык может иметь необходимый уровень развития только в том случае, если он полноценно функционирует в основных сферах общественной жизни – в образовании, науке, искусстве, средствах массовой информации, и, естественно, в повседневном общении. Когда употребление родного языка все больше ограничивается кругом семьи и средней школы, то, естественно, значение родного языка в культурной жизни нации падает. Исходя из опыта языковой политики последних лет, в условиях каждой республики России соотношение между различными языками может быть свое. Задача состоит в том, чтобы нормативные, в том числе и конституционные акты не допускали никаких привилегий одним и никаких ограничений другим языкам. Ведь за пределами своих национально-административных образований или не имеющих их проживает свыше 55 млн. человек. И их культурно-языковые запросы должны быть также максимально учтены, если в современной культурной политике одной из важнейших задач ставится снижение, а в пределе снятие напряженности в
отношениях между народами. Развитие языков в многонациональном государстве возможно лишь при обеспечении возможностей для каждого народа овладевать как собственным, так и инонациональными языками. Задачи нормализации языковых аспектов современных национальных процессов, оптимизации двуязычия и многоязычия в Российской Федерации могут быть решены только путем выработки и практического осуществления реалистических принципов национально-языковой политики на основе равноправия всех этнических образований. Для этого необходимо разработать и принять научно обоснованную комплексную систему мер. Сегодня нежелательны ситуации, когда среднее, а порой и высшее образование части нерусского населения сочетается с незнанием или плохим знанием русского языка. Нужны также условия, чтобы русское население союзных и автономных республик имело больше возможностей улучшать свое знание языков коренных национальностей. Естественное развитие различных типов двуязычия и многоязычия будет достигнуто только при полной свободе выбора языка обучения и общения. Административный нажим и силовое общественное давление здесь недопустимы. Культурный плюрализм дает право человеку не только изучать тот или иной национальный язык, но и не изучать его. Его распространение в обществе открывает возможность перенести в практическую плоскость культурной политики принципы свободного выбора языка обучения и общения, подлинного равноправия языков народов России. Однако конкретные подходы к решению языковых проблем в различных национально-культурных регионах должны быть разные. Так, у народов Севера проблемы сохранения родного языка стоят совершенно в иной плоскости, чем у национальных меньшинств, проживающих в иноэтнической среде. В то же время необходимы усилия по сохранению языков всех, даже самых малочисленных, этносов. Здесь возникает противоречие между необходимостью сохранения языков малочисленных народов и личными интересами представителей этих народов. Снятие этого противоречия возможно только в сочетании доброй воли и стремления самих этнофоров (представителей малочисленных народов) сохранить свой язык с государственными культурно-политическими мероприятиями по поддержанию этого стремления. В последние годы в Российской Федерации культуры малочисленных народов получили импульс для своего развития. Однако
процессы разрушения традиционной культуры зашли так далеко, что можно уже говорить о реставрации языка и культуры многих малочисленных народов. А для этого нужны средства, которых пока у молодого российского государства нет. Для начала необходимо уберечь традиционные культуры от дальнейшего разрушения. А для этого необходимо исключить всякое насаждение единых социокультурных эталонов, практики навязывания «сверху» стандартов поведения, суждений и критериев оценок, выработанных без ведома и участия представителей малочисленных народов. Здесь важно найти место культуры каждого малочисленного этноса в многонациональной культуре России: как в аспекте современных социокультурных процессов, так и в аспекте исторических взаимосвязей культур народов России. Последний аспект особо важен, так как степень развитости культуры того или иного этноса определяется включенностью в современную жизнь его исторической памяти – чем больше объем этой памяти, тем выше культурный потенциал ныне живущих поколений. Поэтому забота о сохранении этно-культурной среды должна войти в повседневную жизнедеятельность всех народов, особенно малочисленных, чья культура подверглась наибольшим разрушениям. И если идущие в стране модернизационные процессы воспринимаются как нечто альтернативное по отношению к сохранению этнического своеобразия культур, то неизбежно возникает конфликт между неосвоенным и освоенным. Осознание и пути разрешения этого конфликта – имманентная социальная задача творческой и гуманитарной интеллигенции, студенческой молодежи, субъектов культурной политики.
6.2. Народы Севера: проблемы выживания в условиях кризиса Малочисленные народы, населяющие бескрайние просторы европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока, вызывают особую тревогу. Экологические катастрофы, затяжной экономический кризис российской экономики поставили аборигенов в исключительно тяжелое положение. Народы Севера, согласно предложенной выше классификации, принадлежат, в основном, к типу дезинтегрированных этнолингвистических общностей. Дисперсность расселения, низкая этнодемографическая плотность, наличие в рамках каждого народа микроэтносов, имеющих свои особенности в языке и традиционной
культуре, создает множество специфических проблем во всех сферах взаимодействия макросистемы с народами Севера. Рассмотрим некоторые из них. В течение ряда лет нами проводились конкретные исследования социального положения коренного населения Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого и Эвенкийского округов, а также Якутии. На основе анализа эмпирического материала можно выделить ряд основных проблем, определяющих уровень социального развития не только аборигенов указанных районов, но и всех малочисленных народов российского Севера. Общие черты взаимодействия советского варианта техногенной цивилизации и традиционного уклада жизни коренного населения влияют на все его сферы, порождая целые комплексы негативных явлений и острых проблем. Быстрое и экстенсивное развитие отраслей промышленности, транспорта, строительства привели на грань экологической катастрофы северную природу на обширных территориях, что серьезным образом разрушило основу функционирования традиционных отраслей хозяйства народов Севера – охоты, оленеводства и рыболовства. Особенно тревожная обстановка сложилась в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах. В то же время новые отрасли хозяйства практически не сочетаются с традиционными, не только не способствуют их развитию, но ведут к их вытеснению из образа жизни местного населения. Промышленное освоение Севера привело к серьезным демографическим изменениям. Вследствие притока мигрантов повсеместно сокращалась доля коренных жителей. Например, в Ханты-Мансийском округе аборигены составляют менее 3% от общего числа жителей. Производимая коренными северянами продукция, в основном промыслово-сельскохозяйственная, в экономическом балансе региона на фоне огромных индустриальных объемов стала почти незаметной. Наравне с притоком извне происходит активный процесс внутрирегиональной миграции, связанной с переводом кочевого населения на оседлый образ жизни и переселением людей из мелких поселений в центральные усадьбы хозяйств и в райцентры. Концентрация аборигенов, согласно замыслам политических лидеров, должна способствовать созданию условий для развития образования, медицинского, торгового и бытового обслуживания, повышению общей культуры народов Севера. Однако в реальности эти цели достигнуты не были. Значительная часть аборигенов, переселенная в крупные поселки, окончательно
порвала с традиционным хозяйством. Другая часть оказалась удаленной от производственных участков – оленьих пастбищ, охотничьих и рыболовных угодий. Производственные бригады и звенья были оторваны от поселков, еще более осложнились культурное, медицинское и бытовое обслуживание промысловиков и оленеводов в местах их производственной деятельности. Многочисленные проблемы развития народов Севера находят свое отражение и в процессах изменения их социальной структуры. По данным статистики, на 1992 г. в общественном производстве было занято 50968 чел., в том числе женщин – 25896. Подавляющее большинство (около 64% трудоспособного сельского населения) народов Севера занято в традиционных отраслях – оленеводство (22,4%), охотничий промысел (17,9%), рыболовство (42,9%). В обслуживании этих отраслей занято 8,7% аборигенов[66]. Обследованием, проведенным Институтом социологии АН СССР в 1982–1990 гг., выявлен крайне низкий уровень образования населения, занятого в традиционных отраслях – большинство из них имели только начальное образование. Среди занятых в сельском хозяйстве из представителей народов Севера исключительно мало механизаторов и специалистов. Так, на 1990 год из общего числа занятых в сельском хозяйстве насчитывалось всего 228 человек с высшим образованием или 0,9% от числа занятых в этой отрасли; только 6,5% занятых имели специальное среднее образование. В настоящее время в колхозах и совхозах по существу отсутствуют инженерно-технические и руководящие работники со специальным образованием. Так в обоих автономных округах Тюменской области (Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком) в 1988 г. не было зарегистрировано ни одного человека со специальным образованием в руководящем составе хозяйств, а руководители среднего звена в совхозах Ямало-Ненецкого округа составили всего 0,3% от занятых, а в Ханты-Мансийском – 2,4%. Это в три раза ниже показателей по России. В составе ИТР народы Севера в этих округах вообще не представлены. В то же время при перемещении коренных северян из традиционных отраслей (современная молодежь неохотно идет в оленеводство) в любые другие сферы занятости им ввиду низкого уровня образования и слабой адаптации к современному производству приходится довольствоваться лишь низкооплачиваемой и непрестижной работой. По нашим данным, среди лиц, не занятых в традиционных отраслях, у представителей народов
Севера неквалифицированным физическим трудом занято почти 80% работников, что вдвое превышает общесоюзный показатель. Негативные явления в формировании и развитии социальной структуры коренных народов Севера усугубляются современной системой образования. Дети оленеводов и промысловиков воспитываются и обучаются в дошкольных учреждениях и интернатах и в этих условиях, с одной стороны, отрываются от традиционных занятий родителей, а с другой – в связи с отсутствием целенаправленной профессиональной ориентации не приобретают навыков и знаний для работы в отраслях северного хозяйства. Основной формой обучения трудовым навыкам стали факультативные занятия по основам оленеводства и охотоведения, эффективность которых крайне низка. В итоге выпускники школ сейчас редко идут в оленеводство и промысловое хозяйство. Представители народов Севера мало представлены в СПТУ и техникумах, готовящих специалистов для современных отраслей хозяйства. Их доля среди учащихся в 1,5–2 раза ниже доли всего населения в регионах проживания. С такими же перекосами происходит и формирование национальной интеллигенции. Готовятся преимущественно специалисты народного образования, здравоохранения и учреждений культуры. Местные органы не направляют молодежь народов Севера в вузы, в которых готовят специалистов в области сельского хозяйства, науки и техники. По собственной инициативе ввиду отсутствия традиционных ориентаций на умственный труд молодежь Севера не идет в вузы технического и естественно-научного профиля. Во всех обследованных нами автономных округах уровень жизни коренного населения по всем позициям оказался ниже, чем у приезжих. Так, средняя заработная плата у аборигенов в 1,5 раза меньше, чем по округам в целом. Неотрегулированным остается и вопрос об оплате труда промысловиков и оленеводов в региональном разрезе. На Камчатке и Чукотке платят за одинаковый труд намного больше, чем в Ненецком, Ямало-Ненецком округах и Ханты-Мансийском округах, так как в этих регионах районный коэффициент в 1,5 раза выше, что явно несправедливо. Как показывают исследования, в ряде мест сложилась практика сдачи в аренду наиболее богатых промысловых угодий приезжим промысловикам, что серьезно ущемляет интересы местных охотников и рыбаков. Переселение аборигенов в поселки не сопровождалось соответствующим жилищным строительством. Основные средства,
отпущенные на строительство, оседали в административных центрах округов. В итоге народы Севера в обеспеченности жильем хронически и значительно отстают от средних показателей России. В национальных поселках наблюдается острая нехватка жилья: обеспеченность им не превышает в среднем 4 кв.м. на человека. В большинстве сельских населенных пунктов отсутствуют элементарные бытовые удобства: газифицировано всего лишь 3% (и это в крупном нефтегазовом регионе страны), имеют водопровод – 0,4%, центральное отопление – 0,1% жилищ. Нет канализации, водозаборов, отвечающих санитарно-экологическим требованиям. Жилой фонд преимущественно ветхий. Социально-бытовая инфраструктура поселков неразвита. Снабжение продуктами и промышленными товарами скудное. Вот пример. В Ямало-Ненецком автономном округе в 1988 г. 43,8% рыбаков и охотников вообще не имели жилья (свыше 9 тыс.чел.). В домах рыбозавода округа наблюдается крайняя скученность жильцов – на каждого приходится менее 3 кв.м. В Ханты-Мансийском автономном округе и Якутии попадались поселения, которые официально считаются «ликвидированными», но в них продолжают жить люди. Там сфера обслуживания отсутствует, жители могут рассчитывать только на свое домашнее хозяйство и помощь соседей. Социальные проблемы малочисленных народов Севера наглядно отражаются в таких важных показателях, как состояние здоровья и демографической ситуации. У народов Севера детская смертность в 2,5–3 раза выше, чем в России в целом. Общая смертность среди аборигенов уже несколько десятилетий не снижается, оставаясь на чрезвычайно высоком уровне, который в 2–3 раза превышает этот показатель по Российской Федерации. Продолжительность жизни коренного населения северных районов составляет – 43–46 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Это на 18 лет меньше, чем в среднем по России. Причин этому множество: крайне низкий уровень медицинского обслуживания и отмеченные выше тяжелые бытовые условия жизни. Особо следует отметить последствия аккультурации народов Севера. В результате аккультурационных процессов происходит разрушение традиционных культурных ценностей аборигенов, связанных с уравнительно-общинным распределением и групповой взаимопомощью. Столкнувшись с жесткой системой социальных отношений современного общества, далеко не все аборигены могут к ней приспособиться. Вероятно, этим можно объяснить высокий уровень суицидности у народов
Севера (7–9 случаев на 10 тыс. чел. населения, что в 4 раза превышало среднесоюзные оценочные показатели). Результаты исследований показывают относительно низкий уровень запросов народов Севера. Большинство аборигенов в бытовом обиходе довольствуется только самым необходимым, не стремится ни к каким формам обогащения. Накопительство и приобретательство если и не считаются презренным занятием, то и не приветствуются. Таким образом, ввиду неразвитости запросов у коренного населения слабо выражены материальные стимулы к интенсивному труду. По всей видимости, разрушением традиционных культурных форм и невключенностью населения в новые можно объяснить широкое распространение среди всех социальных и возрастных групп аборигенов пьянства и алкоголизма, ведущих к высокой смертности, детской олигофрении. По данным социологических исследований более мобильны в социальном плане у народов Севера – женщины. Сейчас они составляют 76% представителей народов Севера со средним специальным образованием. Практически все они хотят жить по-новому, тогда как среди опрошенных мужчин 72% ориентируются на традиционный уклад жизни. Этот разрыв в уровне образования и ценностных ориентаций приводит к тому, что более 80% женщин коренной национальности, имеющих образование, в возрасте до 40 лет либо не замужем, либо состоят в национально-смешанных браках. Исследования показывают кризис семейной организации у народов Севера, что также связано с процессами аккультурации. В поселках растет число неполных семей – в основном матери-одиночки и вдовы с детьми. Значительная часть времени, проводимая мужчинами-промысловиками и оленеводами вне семей, живущих в поселках, не способствует упрочению брачных уз. Содержание детей в интернатах разлучает их с родителями, разрушает у последних привычку заботиться о детях, заниматься их воспитанием, что также обостряет кризисные явления в семейно-бытовой сфере жизнедеятельности народов Севера. Результаты исследований позволяют сделать вывод, что в настоящее время на российском Севере сформировались две метаэтнические группировки людей, ведущих различный образ жизни и имеющие разные запросы. В состав первой группировки входит все коренное население региона, ведущее традиционный образ жизни и разрабатывающее, главным образом, возобновляемые ресурсы. Вторая метаэтническая группировка включает в себя приезжее население и часть ассимилированных аборигенов, занятое, в
основном, в добывающих невозобновляемые ресурсы отраслях промышленности. Взаимодействие этих группировок населения и порожденные этими взаимодействиями напряжения в каждом конкретном районе Севера имеют свои особенности. Однако во всех районах есть общие социокультурные проблемы: все коренные народы находятся в неравном положении по сравнению с другими народами. Коренное население Севера далеко отстает по показателям уровня жизни от средних показателей уровня жизни областей, краев и республик, на территории которых оно проживает. Поэтому на уровне социальной и культурной политики встает задача оказания реальной помощи аборигенам, смягчения того жесткого воздействия на различные сферы их жизнедеятельности, которое оказывает общество как система. Это воздействие выражено в разрушении экологии народов Севера и их традиционного образа жизни и культуры. Так, деятельная связь с природной средой заменяется общими положениями биологии и географии, этносоциальная ориентация – обществововедческими абстракциями, трудовое обучение осуществляется так, что молодежь не желает работать в традиционных отраслях хозяйства; традиционная духовная культура полностью замещается инокультурными образами. В оказании помощи малочисленным народам Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока, на наш взгляд, нужно определить две линии – стратегическую и тактическую. В стратегии помощи народам в настоящее время преобладают две концепции. Сторонники одной – часть обществоведов и политики из центра считают, что методами управления необходимо сформировать у аборигенов социальную структуру и образ жизни, соответствующие общероссийским стандартам и эталонам. Сторонники другой – обществоведы с культурологическим подходом, местная гуманитарная интеллигенция, новое поколение локальных политиков – видят в первой концепции угрозу ликвидации этнической специфики и самобытности народов Севера и предлагают всеми способами сохранять их традиционный уклад и образ жизни. Нам представляется, что обе эти концепции отличаются односторонностью. Нельзя остановить хозяйственное освоение Севера, законсервировав традиционный культурно-хозяйственный уклад. С другой стороны, насильственное разрушение этого уклада ведет к тяжелым для аборигенов последствиям. По всей видимости, в стратегическом плане нужно отказаться от чисто экономического подхода к управлению подобными регионами и перейти на научно обоснованную культурную политику, регулирующую отношения аборигенов с
центром и приезжим населением. Это регулирование должно быть многовариантным: для каждого конкретного региона необходимо разработать программу мер, обеспечивающих соблюдение не только экономических, но и социально-культурных интересов коренного населения при разработке природных богатств. Осуществление культурной политики предполагает повышение роли аборигенов в решении стратегических задач общего развития Севера, свободу выбора пути развития, право самим решать, что для них лучше – традиционализм или индустриализация и урбанизация, государственные льготы или самостоятельность в социально-экономической и культурной сферах. Решение этих задач невозможно без повышения политической активности коренного населения, укрепления органов его самоуправления, расширения их прав и обязанностей. К числу конкретных законодательных мер, которые бы сняли или ослабили противоречия и социальное напряжение, возникающие в процессе взаимодействия аборигенов Севера с организациями и предприятиями, ведущими разработку природных богатств Севера, и приезжим населением, следует отнести следующие: поставить под контроль деятельность государственных и коммерческих структур, привлечь часть их прибылей на развитие социальной инфраструктуры народов Севера, особенно на жилищное строительство, обязать организации, нанесшие ущерб охотничьим угодьям и ягельникам, провести их рекультивацию за счет этих организаций; в районах компактного проживания этнических групп аборигенов создать национальные районы (один из таких районов уже создан в Республике Саха (Якутия) – Эвено-Бытантайский), ввести в этих районах право приоритетного землепользования для коренного населения, дать реальные права местным органам управления; привести в надлежащий порядок хозяйства самих коренных жителей; поощрять самостоятельность хозяйств, пропагандировать и внедрять семейный подряд, особенно в оленеводстве, арендные договоры и различные формы кооперации в промысловом хозяйстве; установить более справедливые районные коэффициенты к заработной плате для коренных жителей и приезжих; перевести на хозрасчет промышленные и строительные организации с целью уменьшения притока рабочей силы; повсеместно на Севере внедрять, в противовес «ведомственной» собственности, также формы кооперативной собственности коренных жителей, которые позволили бы им себя почувствовать
полновластными хозяевами тайги и рек, тундровых пастбищ и промысловых угодий. Говоря о малых народах Севера как о дезинтегрированных этнолингвистических общностях, нельзя не коснуться и проблемы их консолидации. К такого рода процессам принято относить процессы слияния нескольких родственных по языку и культуре этнических групп (микроэтносов). У народов Севера, несмотря на действие политических факторов и управленческое воздействие государственных органов, поощряющих консолидацию, слияния микроэтносов не произошло, так как для этого отсутствуют необходимые условия. Противоречие между желанием политического руководства консолидировать разрозненные этнические группы в общности, часто называемые в печати народностями, и объективными факторами, связанными с нынешними формами проживания самих этносов, порождает множество проблем. Во-первых, искусственная подгонка различных этнических групп под термин «народность» приводит к серьезному искажению этнодемографической ситуации на Севере, и, во-вторых, осложняет практическую работу по развитию культуры коренного населения. По материалам наших исследований, в большинстве автономных кругов издаваемые на местных языках газеты, а также радиопередачи остаются мало понятны или совсем непонятны для большинства коренного населения. Причиной этого является искусственность так называемых национальных языков народов Севера. Например, у хантов существует восемь диалектов, которые настолько отличаются друг от друга, что впору говорить не о диалектах, а о самостоятельных хантыйских языках. Газеты же издаются на одном из этих диалектов, на котором говорит только одна из групп хантыйского населения. Такая же картина наблюдается у эвенков, ненцев, манси, селькупов и других народов Севера. Если смотреть на этнические процессы, происходящие в этом регионе, объективно, то представляется маловероятной в обозримое время их национальная консолидация. Наиболее репрезентативно этнические проблемы, связанные с процессами искусственной консолидации, выражены у дезинтегрированной этнолигвистической общности эвенков. На территории Эвенкийского округа, который должен был, по замыслу его создателей, консолидировать всех эвенков в единую «социалистическую» народность, находится менее 3,5 тыс. из 27 тыс. эвенков, проживающих в России. Остальные разбросаны по территориям республик Бурятия и Саха (Якутия), Амурской,
Читинской и Иркутской областей, Сахалина и Хабаровского края. Проживающие вне Эвенкийского автономного округа 24 тыс. эвенков не имеют никаких этнических образований, в результате чего по отношению к ним даже не разрабатывается никаких культурно-политических мер, которые бы могли помочь их этническому самоопределению. Во всех этих местах не решаются жизненные проблемы эвенков. В местных органах самоуправления нет представителей от эвенков; получившие гуманитарное образование эвенки не могут найти себе работу вне округа, так как в других местах, где проживают представители этого народа, проблемам их языка и традиционной культуры не уделяется достаточного внимания. Получилось так, что Эвенкийский автономный округ был создан лишь для енисейского микроэтноса эвенков. Нет никакого общения между эвенками разных областей и регионов. Газету, выходящую в Эвенкии отдельным листком два раза в месяц, не понимают эвенки, проживающие в других регионах. Радиовещание округа тоже недоступно для эвенков, живущих за пределами округа. Таким образом, эвенки, состоящие из нескольких сильно отличающихся друг от друга микроэтносов, расселенных на территории 9,5 млн. кв. км, не могут считаться консолидированной народностью. Более того, этнические группы эвенков, как и других малых народов Севера, зачастую экономически и в социальном плане больше привязаны к близлежащим поселкам, населенным русскими, якутами, бурятами и т.д., чем связаны между собой. Таким образом, идея консолидации малых народов Севера в единые народности не согласуется с объективными социально-этническими процессами, происходящими у коренного населения данного региона. Эта идея вытекает из широко распространенного в советской идеологии общего представления о возможности произвольного построения действительности, ее конструирования, о праве людей, наделенных властью, вершить историю по своему усмотрению. Попытки насильственной модернизации и интеграции малых народов стали логическим итогом этого мышления. Политикам и идеологам всех рангов была глубоко чужда сама мысль об объективности исторического процесса, о пределах вмешательства в этнические процессы политическими средствами. Идея ускорить социокультурное развитие коренного населения методом консолидации его в «социалистические народности» оказалась несостоятельной. Народы Севера остались дезинтегрированными этнолингвистическими общностями, и существующая ныне политико-административная структура народов Севера не соответствует их
этнической структуре. Поэтому нужна не искусственная консолидация мифических «социалистических народностей», а новая система национальных автономных районов, в которых бы максимально были учтены экономические, социальные, культурные интересы и запросы микроэтнических общностей народов Севера. Не так давно была создана Ассоциация народов Севера, ставящая перед собой задачу смягчения воздействия общего кризиса на малочисленные. Ассоциация выступает против патерналистского подхода к проблемам народов Севера, разграбления ресурсов, тотальной бесхозяйственности, отнимающей у аборигенов надежду на разумное использование богатств их земли. Преодоление экологического кризиса становится неразделимым с культурными традициями и национальной политикой. К числу таких общих проблем, без которых невозможно преодоление или хотя бы смягчение этнических кризисов, относятся: современные правовые, экономические и социальные вопросы природопользования коренного населения; сохранение и охрана северных экосистем, эколого-этнографическое районирование территорий, заселенных традиционными этносами, сохранение народных традиций и вклад народного опыта в современные системы рационального природопользования и сохранения традиционных культур народов Севера. Все эти проблемы крайне актуальны и требуют Детальной научной проработки.
Глава 7. Феномен катастрофы
Человечество давно осознавало катастрофичность своего существования как нечто сущностное, фундаментально связанное с ним как с видом и родом. В духовных мироощущениях это связывалось с имманентной греховностью человека (эсхатология), в научных – с органическими свойствами Земли как местом его обитания, в социальных теориях – с пороками общественного порядка. Но осознание неизбежности катастроф, неизбежности, встроенной в само появление, природу человека, присуще и религиозным, и естественным, и идеологическим картинам мира, что побуждает думать о возможности общей теории катастроф.
7.1. Предчувствия и образы Это не та смертность, которая как парный антитезис жизни циклически завершает ее. Катастрофа взламывает понятный цикл внезапным вмешательством, ошеломляет контрастом между моментностью потрясения и тотальностью разрушений. Конец света, землетрясение, революция, авария малопредвидимы, прогнозы часто не сбываются, причинные связи загадочны, трудности их рационализации восполняются воображением, предчувствием. В сознании катастрофы облекаются в образы. В простейших верованиях – это внешняя самопроизвольная сила (человеко- или животнообразная). Затем образы приобретают оценочный смысл, ставя свершившееся или даже званое бедствие в то или иное отношение с человеческими качествами. Тогда оно становится законом, который для рефлектирующего субъекта свидетельствует многое о его собственном бытии. Формирование этих образов особенно возбуждается распространением предчувствий грядущей катастрофы. Общество, десятилетиями пребывавшее в кризисе, еще большее ухудшение своего положения и не может воспринимать иначе. Конечно, появляется немало прогнозов с тем же вектором, хотя собственно научная атрибуция у них заметно подыгрывает тем же предчувствиям. Но массовые предчувствия такого рода имеют свою историческую значимость: они выражают настроение, точнее – настроенность народа на трагедию. К тому же подобная настроенность действительно усугубляет положение, усиливая фрустрацию, пассивность. Это более чем покорность беде, тут мазохистская реакция на нестерпимые проблемы времени. Суть проблем – в необходимости меняться самим. Эта самая тяжкая из перемен трудно осуществима без потрясений, как бы требует их. Поэтому в образах наступающей катастрофы просматривается оправдание ее, даже полезность для будущего. В массовом сознании нашего общества можно обнаружить следующие из упомянутых образов. Катастрофа как проклятье. Цепь исторических неудач воспринимается как воля рока, нависшего над этим местом, народом; мы оказались на линии столкновения двух цивилизаций, где ломаются лучшие намерения и судьбы. Все чаще повторяется мысль, что это судьба России такая – на своем примере показывать
человечеству, как не надо жить, куда не надо идти. Отработка негодных вариантов развития и есть ее вклад в мировую историю. Катастрофа как возмездие. За что? За соблазн! Соблазниться простыми решениями сложнейших социальных проблем, наскоро перескочить через тяготы долгих этапов обучения и накопления культурного слоя труда и отношений – великий грех. Иногда такой образ осязается вполне эмпирически, хотя и в иных масштабах: чувство общей вины у жителей Ленинакана, которые сами в обход правил строили дома, обучали строителей в школах, воспитывали в семьях, принимали эти дома так, что они и погребли многих при землетрясении. Катастрофа как заговор. Субъективный источник бедствий с куда более конкретным обликом потаенного врага: коварный Запад, алчная бюрократия, расселившиеся между нами чужаки, кто-то еще... Огромная подъемная сила вопроса «Кому выгодно?!» придает небывалую энергию обычно мелким обидам, житейской зависти, темным социальным инстинктам. Но посредством этого же образа интепретируются и природные катастрофы: в декабре 1988 г. даже в просвещенных кругах армянского общества бытовало предположение, что землетрясение было устроено направленным подземным взрывом с тем, чтобы отвлечь людей от Карабахского конфликта. Катастрофа как испытание. Людям нужны великие потрясения, чтобы понять, что в их нравах и опыте выдержит и достойно укрепления и гордости, а что надо преодолеть в себе, и чего не хватает. История этим жестоким способом ведет свой отбор на выживание лучшего. Катастрофа как урок. Надо осмыслить ее причины и последствия для планов на будущее. Избавившись от прошлых заблуждений, найти способ избегают их дальше, как-то иначе построить сам механизм выбора образа жизни, целей и идеалов. Катастрофа как новые возможности. Катастрофа расчищает место для нового созидания. Напластования прошлого труда, овеществленного в неверных или устаревших материальных, организационных, социально-психологических формах, начинают господствовать над трудом «живым». Моментное разрушение их открывает путь новым идеям, инициативам, деятелям. Как видим, диапазон названных образов колеблется от ужаса до едва ли не приветствия. Сейчас невозможно оценить сферу и степень распространенности каждого из них, либо их сочетаний. Не получается распределить их и по каким-то объективно
выделенным социальным носителям. Но они хорошо совпадают с границами так называемых групп сознания, – тем структурным компонентом общества, который складывается не столько по объективным признакам (класс, профессия, образование, возраст и т.п.), сколько по ценностным, мотивационным признакам. Испуганные переменами неудачники-почвенники – на одной стороне, и социально активный элемент общества, ищущий самореализации, – на другой. Злорадствующие беглецы и самоотверженные реформаторы. Разнообразие таких групп довольно велико, границы их подвижны, переменчивы в зависимости от преобладания тенденций. В переломные этапы жизни общества их соотношение очень значимо. Чем именно? По-видимому, в переходные этапы своего развития общество вырабатывает некие исторические предчувствия. Это не прогнозы. По крайней мере не только они. Самопроизвольно возникает опережающая рефлексия, интуитивно-ценностно переживающая близкие перемены. Авторы сборника «Вехи» и «Песни о Буревестнике», конечно с разным отношением, говорят о надвигающейся на Россию катастрофе. По объективным признакам они из общего слоя, хотя из различных кругов общения, и противоположного менталитета. Если одни ближе к первым из приведенных выше образов, то другой – к последнему из них. Показательно ли, что после революции они в чем-то поменялись местами в отношении к происшедшему? Печальное, но признание, даже склонность к сотрудничеству с новым режимом у бывших «веховцев»; гнев и обличения в горьковских «Несвоевременных мыслях». Нужно много сопоставлений с похожими событиями, чтобы понять, имеет ли структура и динамика такой позиционности какой-либо эвристический смысл.
7.2. Поиск понятия, опыт типологии Феномен катастрофы стал притягательным для разных сфер общественного сознания. В научном мышлении эта тема оказалась наиболее развита в геологии и математике. Теория природных катастроф была основана Жоржем Кювье и с тех пор была развита во множестве частных направлений. Заявка же на построение общей теории катастроф была дана только математиками.
Они опираются здесь на категорию равновесия. Достигаемая системой равновесная стационарность при некоторых условиях прерывается, система меняет один режим движения на другой посредством скачка. «Катастрофами называются скачкообразные изменения, возникающие в виде внезапного ответа системы на плавное изменение внешних условий»[67]. Такое бесстрастное и вне-ценностное определение понятия, вероятно, годится для предельной степени общности или для описания некоторых событий во Вселенной и на доисторической Земле. Интерес же к феномену потому и обострился, что сюда вовлечена человеческая составляющая. Более того, в этом интересе она оказывается центральной. А значит – нельзя миновать категорий потерь, ущерба, страданий. Поэтому в справочной литературе катастрофа чаще определяется как внезапное бедствие. В целом этого и достаточно. Уточним, что имеются в виду малая субъективная вероятность каждого конкретного случая и особый масштаб последствий. Ибо в повседневности, конечно, происходит множество отдельных трагедий и от болезней гибнет больше людей. Но именно непредвиденность, разовый и массовый характер потрясения отличают данный феномен. Итак, это аномальное событие в виде острейшей формы социальной патологии, вызывающее тотальный кризис, потрясение жизненных основ отдельных категорий населения, социальных институтов, общества в целом. Помимо гибели людей, она сопряжена с быстрой (от мгновенной до сравнительно затянутой) сменой образа жизни пораженных групп, с возникновением массовых стрессов и ростом отклоняющегося поведения, эскапизма и т.д. Одновременно происходит смещение в жизнедеятельности всего общества, человечества из-за мобилизации усилий и ресурсов для восполнения потерь. По тем же причинам и типологические признаки не могут, на мой взгляд, не отталкиваться от вовлеченности человека в подобное событие. По степени своей социальности, т.е. причинной вовлеченности общественных отношений в их возникновение, катастрофы можно распределить следующим образом: 1) Природные. Разрушительные стихийные явления. Сюда попадают и внесоциальные катастрофы, например, – падение тунгусского метеорита; в тенденции таковых становится все меньше. Космические, ветровые, тектонические источники – обычно
кратковременного или мгновенного действия (ураганы, цунами, землетрясения), другие – длительного (засухи, пожары в лесах). 2) Экологические, т.е. социо-природные. В их основе лежит неадекватное антропогенное воздействие на природу, а через нее – на человека. По длительности они также могут быть разделены: глубокая деградация Арала и калмыцких степей если и обратимы, то через десятки лет, а известное отравление Десны или заводские выбросы в атмосферу сравнительно быстрее преодолеваются в случае принятия радикальных мер. 3) Технические. Аварии в созданных человеком материальных системах (взрывы, крушения техники, пожары в помещениях, шахтах). Они относильно кратковременны. 4) Социальные. Потери в составе населения и структуре общества. Среди причин – массовые насилия (гражданские, международные войны, широкомасштабные репрессии), ненасильственные – например, этнические катастрофы (ассимиляция какой-либо народности). Исторически те и другие были относительно длительными, хотя современные вооруженные конфликты все чаще становятся кратковременными (шестидневная война на Ближнем Востоке, Англо-Аргентинская война за Мальвинские острова) и без ядерного оружия. Приведенная группировка катастроф по характеру источников их возникновения, конечно, условна. Но все-таки позволяет нагляднее отличать, скажем, социальные катастрофы от социальных последствий иных катастроф (природных, технических, экологических). Северо-армянское землетрясение вызвало колоссальную гибель людей, но не непосредственно от толчков земной коры, а от обрушения зданий, вызванных этими толчками. Зданий, кстати, построенных самими людьми, на их средства, с их одобрения. Поэтому прричинно-следственные зависимости в этой и многих подобных катастрофах требуют специального анализа. Но уже здесь видна целесообразность разделить первичные источники опасности (сотрясение земной коры) и вторичные источники опасности, непосредственно угрожающие жизни и здоровью людей (обрушения зданий). Произведенные обоими катастрофические эффекты автономны и связаны не однозначно. Подземный гул и толчки вызывают панику и стрессы, нарушают коммуникации, а разломы и провалы поверхности земли способны поглотить технику, строения, людей. Это неуправляемая, так сказать, составляющая катастрофы. Но падения высотных зданий на соседние, панельных и блочных конструкций – на жителей, покупателей,
пациентов может произойти или нет в зависимости от качества труда. Последнее же имеет самостоятельное значение. Иначе говоря, землетрясение в принципе может остаться лишь природной катастрофой, даже если оно произошло под густо населенным районом и с высокой бальностью. Все остальное определяется рядом социальных факторов. Словом, вопрос не столько в том – «откуда засуха?», а сколько в том – «почему голод?». В социологической типологии катастроф важно различать их также и по качеству социального фактора, причинно обусловливающего их возникновение. Например, по степени субъективности этого фактора: а) Границы знания. Невозможность предсказания катастрофического события для современного уровня науки и технических средств. Эти границы могут быть абсолютными, е ли иметь в виду возможности человечества в целом, и относительными – исходя из состояния таковых в нашей стране, регионе. Приоритетность целей народной безопасности в научно-технической и инновационной политике, отказ от самоизоляции общества – могут раздвинуть обе границы. б) Неадекватности в культуре. Нормы, ценности, традиции, усугубляющие катастрофический эффект первичных источников опасности: низкая трудовая мораль, низкая ценность человеческой жизни, социальная пассивность населения и т.п. Изменение подобных элементов культуры возможно с обновлением хозяйственного механизма, политического режима, идеологии. в) Просчеты. Случайные отклонения, ошибки в оценках ситуации, перспективы, методов достижения целей, в расчетах. Исторические (разгон Учредительного собрания в январе 1918 г.); политические (оценка вероятного времени нападения Германии на СССР); управленческие (размещение АЭС в густонаселенном или сейсмоопасном районе); инженерные (переоценка надежности, прочности конструкций, взрывоопасных сооружений). Предупреждение катастрофических просчетов возможно лишь отчасти через выработку чувства исторической осторожности, демократизации политических процессов, привития установки на избыточную надежность в хозяйственно-технической сфере. г) Преступления. Намеренное нанесение разрушительного ущерба обществу, некоторым категориям населения: разрушение основ их жизни (массовый голод на Украине в 30-х годах), геноцид (истребление нацистами евреев), диверсии (акции по нарушению жизненно важных технических систем). По-видимому, возрастание
сложности техносферы делает человечество более уязвимым для катастроф подобного рода, хотя экономико-политическая взаимозависимость его снижает вероятность бедствий через политические, идеологические воздействия. Итак, возможно двухмерное изображение возникновения катастроф (табл. 13). Это спорно по мировоззренческим причинам, но наиболее верным можно считать следующее распределение степени опасности для человечества, исходящей от образуемых на этой таблице связок. Пересечение 1а – непознанные природные источники – обладает самой разрушительной силой уже хотя бы вследствие огромной зависимости земных событий от космических процессов. Причем, частота их возникновения и предсказуемость существенно меньше других, уязвимость же, беззащитность человечества по отношению к ним – максимальны. По мере излечения отношений внутри человечества природно-космические источники оставляют единственную возможность глобальной катастрофы, перед лицом которой вся добрая воля, все ресурсы мира беспомощны. Эсхатологическая тема нуждается в современном естественнонаучном осмыслении. Пересечение 2б представляет собой значительную, но все более осознаваемую опасность, в какой-то степени уже поддающуюся ограничению. Попытки снижения ее связаны с глубокой ценностно-рациональной переориентацией человечества. Азарт прогресса, спринтерское планирование (на короткие и прямые дистанции), культ потребления и другие неадекватности в культуре индустриального общества через экологическую деградацию приводят к массовым заболеваниям, угрозе биологического перерождения человека. Эти органические пороки культуры чреваты экологическими последствиями больше, чем незнание, просчеты и даже преступления в этой сфере. Далее на этой диагонали в табл. 13 следует выделить опасность технических просчетов и соотношение трудовой культуры с надежностью технических конструкций и сооружений (пересечения 3б и 3в). В юридическом плане некоторые из подобных отклонений могут трактоваться и как преступления. Наконец, общецивилизационные процессы в мире позволяют считать опасность возникновения собственно социальных катастроф хотя и весьма реальной, но меньшей из ранее упомянутых. Причины их возникновения все чаще должны трактоваться как преступные намерения (пересечение 4г).
Таблица 13. Типология катастроф
Так что диагональ в таблице указывает на нарастание опасности налево наверх и снижение ее направо вниз. Соотнесем теперь с этой таблицей особенности Северо-Армянского землетрясения (обозначено X). Роль абсолютных и относительных границ знания в этой катастрофе еще подлежит профессиональной оценке. Думается, технические источники бедствия «сработали» прежде всего по социо-культурным причинам и (в меньшей мере) – из-за инженерных и иных просчетов. Такие социальные факторы, как дефекты кризисного управления, также усугубили бедствие населения. Снова осмотрим «диагональ опасности» на таблице, начав с верхнего левого ее угла. Центральная проблема тут – диалектика непредвидимого и непредвиденного. Грань между обоими понятиями подвижна. Всегда будут пределы возможностей предвидения, но одна граница проходит по объективным, познавательным способностям любых
социально-технических систем – пока вероятность эта неодолима. Другая же зависит от прогнозно-планирующей способности тех же систем в определенном социо-культурном погружении: трудовая мораль, ценность человеческой жизни, квалификация и оснащенность соответствующих служб. Землетрясение на севере Армении не могло быть предсказано из-за крайне низкого уровня технического обеспечения сейсмологических исследований. Но оно намного выше в других промышленно и социально развитых странах, передавших теперь туда свое оборудование. Между тем, по крайней мере одна из систем предупреждения землетрясений ВАН, разработанная и с успехом испытанная греческими учеными, предлагалась французским вулканологом Гаруном Тазиевым в 1987 году и нам, не вызвав, однако, внимания. У советских специалистов были собственные авангардные разработки, также не реализованные практически. Иначе говоря, то, что выглядело непредвидимым по отношению к состоянию «там и тогда», оказывается всего лишь непредвиденным в сопоставлении с почему-то упущенными возможностями. Показанное различие еще очевиднее на примере вторичных источников опасности. Рухнувшие здания, ставшие непосредственной причиной массовой гибели населения, – результат работы приемочных госкомиссий в сейсмоопасной зоне. Но почему они должны работать лучше строителей, а те – врачей, учителей, железнодорожников?.. Деловая культура, трудовая мораль нашего общества – опасны для него же во многих своих точках, катастрофичны в бесконечном разнообразии. За две недели до аварии в Чернобыле в газете «Социалистическая индустрия» была опубликована корреспонденция со строительства Ростовской АЭС[68]: термическая оболочка и основание реактора бетонировались по негодной арматуре. Будущее бедствие уже материализовано. За полгода выявлено более пятидесяти грубых нарушений проекта, технологии строительных работ, шесть раз шли на крайность – останавливали стройку. Но брак возобновлялся. Почему не срабатывал многоступенчатый контроль? Управление комплектации ведет входной контроль за качеством стройматериалов и конструкций, но прояви оно строгость – придется отвечать за порчу и повреждения материалов от неправильного складирования и транспортировки по их
собственной вине. Проектировщики не решаются настаивать на соблюдении проекта потому, что строители тогда попрекнут их многими ошибками в чертежах, частых переделках проектов и в ходе строительства. А если заказчик – дирекция строящейся АЭС – не примет объект, ей напомнят о качестве выдаваемого оборудования, сроках его поставок... Все боятся встречной требовательности и покрывают пороки друг друга. Чернобыльская «мина» была заложена в домах Ленинакана, Спитака, Кировакана: легко крошащийся бетон, недосваренная арматура и т.п. Общественный порядок и деловая культура могут быть катастрофогенны сами по себе. И в этом смысле они не совместимы с научно-техническим прогрессом. И все же предложенная выше типология среди всех источников бедствий в наиболее опасные выводит природные катастрофы. Для управления отсюда возникает вечная дилемма: распределение целей и ресурсов между сохранением и развитием общества одновременно.
7.3. Экзистенциальный риск Одна из ограниченностей современных глобальных моделей и проектов развития человечества состоит в том, что связь явлений там замыкается пределами Земли. Между тем, планетарные процессы туго «завязаны» на космические. Природа едина: вселенская и земная, материальная и социальная. Космо-гео-социосистема едина, но гетерогенна. Ее составляющие возникали последовательно. И именно в этой последовательности возрастает их уязвимость. Катастрофичность – одно из сущностных свойств мироздания. Современная астрофизическая версия происхождения галактики предполагает взрыв, «разбегание» ее из сверхплотной точки. Она же допускает и возможность коллапса, т.е. обратного «схлопывания» вещества. Но уже вполне сопоставимы с человеческой историей такие явления космобиоритмики, как регулярные природные катаклизмы. Особая солнечная активность вызывает 400-летний цикл резких колебаний климата. На нашей территории в 1601–1603 гг. от вызванных этими колебаниями летне-осенних морозов трижды погибал урожай, что привело к массовой гибели людей. И теперь повтора следует ожидать около 1994 года (по О.Н.Яницкому).
Кроме того, есть немало катаклизмов космического происхождения, регулярность которых пока не просматривается или вовсе отсутствует. В XX веке было два столкновения Земли с космическими телами сокрушительной силы: Тунгусский метеорит 1908 г. и Сихотэ-Алиньский метеоритный дождь 1947 г. Первый из них вполне мог, например, снести полностью Петербург, находившийся на его маршруте четырьмя часами ранее. Наводнения, цунами, ураганы, землетрясения, извержения вулканов – лишь локальные эквиваленты войн, истоки которых, однако, не контролируемы людьми. Что же касается источников глобальных бедствий, угрожающих физическому благополучию человечества из недр галактики, то эта опасность еще мало осмыслена, будучи, во-первых, вытесненной внутрипланетарными опасностями, а во-вторых, она пока мало доступна знанию. Видимо, изменения космо-земного магнетизма вызывают различные последствия в массовом поведении. Мутации, возбуждения социальной энергии как в творческом, так и в деструктивном направлениях. Есть, в частности, предположения именно об этих источниках вспышек преступности в ранее весьма спокойных странах (например, вспышки молодежного насилия в Англии и Финляндии). Нельзя исключить волны озлобления и вражды по той же причине в куда больших масштабах. Как известно, Л.И.Гумилев считает, что по крайней мере некоторые этнические и государственные катастрофы, как впрочем и расцвет народов и территорий, в прошлом происходили именно таким путем. Человеческое существование, уже в силу своей генетической связи с данной сферой обитания, подвержено постоянному риску разной степени, в том числе риску абсолютному. Исследования академика М.И.Будыко показали, что сама жизнь па Земле появилась вследствие уникального временного сочетания компонентов и состояния газово-температурной среды. Это сочетание может быть нарушено космическими изменениями в непредвидимые сроки. Иначе говоря, потенциальная амплитуда природных флуктуаций превышает жизнеспособность человека. Упомянутый риск характеризуется и тем, что это риск пассивный. Вынужденно пассивный, ибо противодействие угрозе может быть главным образом в режиме защиты и спасания. Пассивность риска есть следствие неравносильности взаимодействия двух рычагов: космо-гео и био-социо. Эти стороны вообще не образуют двухсторонней целостности. Ибо первая способна
к выживанию без второй, но никак не наоборот. «Старшинство» первой или производность второй отдает односторонним господством, даже непартнерской униженностью. И это при том, что если «младшая» сторона хоть как-то субъектна по отношению к другой, то в естественном смысле последняя «слепа». Слепое превосходство и «равнодушие» неживой материи по отношению к жизни чревато смещениями в названном взаимодействии – вплоть до критических. Всякий негатив в обратном направлении, переработка и порча человеком вещества природы, – не только ничтожен в таком контексте, но и проблематизируется обществом. Да и собственно видовое развитие человечества, имея какое-то начало, не обязательно бесконечно. Подобно онтогенезу с его рядом катастроф (болезни, неудачи), завершающемуся катастрофой абсолютной – биологический вид неизбежно подвергается сходкам потрясениям, но включая ли также и конец? Вопрос не так уж абстрактен. Хорошо известно, что позывы к самоубийству возникают в индивидуальной жизни именно как средство решения проблем. Не те же ли проявления видовых инстинктов мы видим в навязчивой тяге человечества к войнам, к экологической агрессии? Какие-то ближние проблемы этим и в самом деле решаются. Абсурд обнаруживается лишь на уровне обобщения. Но уже на следующей фазе рефлексии снова напрашивается причинная связь... Закономерное отчуждение продуктов деятельности человека, их противостояние ему – в самих основах существования человека. Техника аварийна. Города стрессогенны. Границы конфликтны. Экономика кризисна. Внутреннее неравновесие и автоколебание социума постоянно порождают бедствия. Равновесие эволюционных систем не может быть непрерывным, бесконечно плавное развитие любого целого невозможно. Когда-то наступает перерыв постепенности. Таким образом, экзистенциальный риск, катастрофичность человеческого существования сводится к таким факторам, как: – случайность естественного возникновения жизни, по крайней мере в ее биологическом и человеческом вариантах; – чрезвычайность как сущностная черта жизни; – предопределенность существования жизни колебаниями в земной и внешней природе.
7.4. Патология помощи Катастрофа стихийна. Она вызывает мощные реакции в пораженной зоне и извне ее. На линии «зона – внешний мир» складывается напряженнейшее переплетение противоречий, вызванных сильным чувством и здравым смыслом. Нередкое следствие – самоотчуждение помощи, обращение ее в противоположность. Землетрясение в Северной Армении многое показало в этом отношении. Но сначала – об особой социальной структуре зоны как объекта помощи. Там складываются следующие группы. Пораженные группы населения, т.е. выжившие, но пострадавшие от травм, психологического потрясения, потери имущества, – стали получать помощь почти сразу же. Основным поставщиком ее были, так сказать «активисты первого часа»: жители, не пострадавшие сами, командировочные и местные жители, преодолевшие оцепенение от собственных потерь. Затем группы помощи стали быстро пополняться за счет прибывающих в зону родственников из других мест. В социально-демографической структуре населения зоны катастрофа такого рода вызывает следующие резкие перемены (если судить по данному землетрясению). Во-первых, среди погибших непропорционально много школьных возрастных когорт. Кроме того, некоторые из местных жителей обратили внимание на повышенный удельный вес интеллигенции среди жертв, поскольку в последние годы она чаще поселялась в новые высокоэтажные здания. И еще – массовая эвакуация не только детей, но и почти всех желающих. Усиливается и самостоятельная эмиграция. Как ожидается, процент их возврата в оставленные поселения окажется существенно ниже 100%. К сожалению, упущена возможность опроса об отношении к безвозвратной миграции в эвакопунктах, на выездах из городов. Особо проблемными в такой обстановке оказываются социально слабые группы. Они образуются лицами, не оправившимися от потрясения, потерявшими опорных членов семей, на иждивении которых были, отличавшихся и ранее социальной пассивностью. Состояние аномии отчуждает их от и без того скудного пайка, они бедствуют больше других. В зону поступают группы спасания: специфические (спелеологи, горноспасатели и т.д.), неспецифические (медики, крановщики с техникой и т.д.), группы поддержки (снабженцы,
эвакуационный пункт и т.д.) руководство и аппарат кризисного штаба, работники прессы, исследователи. Важным фактором резкого изменения социальной структуры населения в зоне становится быстрый рост численности восстановительных групп: прибывающих со всей страны работников строительных специальностей со своими службами инфраструктуры. Их направляют все союзные и автономные республики, хозяйственные министерства. Их палатки заполняют скверы и парки, в пригородах они ставят времянки. Трудности быта, ротация состава, высокий объем потребления прибывающими в зону продовольствия, промтоваров, большие этно-социальные различия с традиционно однонациональным местным населением и т.д., – все это делает отношения «приезжие – коренные группы» в той или иной степени проблемными, что заслуживает специального исследования. Теперь – об отношении «зона – внешний мир». Из патологических проявлений здесь прежде всего необходимо упомянуть «вал помощи». По отношению к техническим средствам это выразилось в закупорке коммуникаций ненужными механизмами (например, маломощными кранами), которые своей массой очень затрудняли продвижение к центру событий остро необходимой техники, специальных команд. К примеру, полностью экипированный отряд спасателей из Удмуртии с автономным обеспечением по этой причине добирался до зоны 12 дней, и не успел уже никого спасти. Отсюда и другая форма патологии помощи – опоздание, то есть стремительное превращение ее в бесполезную и даже в свою противоположность, помеху – обусловлена потерей времени на мобилизацию и доставку групп спасания (специфических и неспецифических). При таких катастрофах действует зависимость: рост потерь времени в арифметической прогрессии приводит к росту потерь жизней в геометрической прогрессии. Тем не менее, задержки вызываются не только упомянутым валом, но и распорядительной негибкостью. Если в обобщенном, опосредованном варианте в отношения помощи вступают макрогруппы (поселенческие, организационные, национальные и т.д.), чаще всего анонимные, то в полевом варианте, при непосредственном распределении ее, в прямой контакт вступают малые помогающие и потребляющие группы (индивиды). Отсюда и специфика трудностей. Важнейшая из них · организация непосредственной раздачи (об этом уже говорилось). Усугубление социальной
несправедливости здесь неизбежно, поскольку распределение по критериям равномерности и остроты потребности – исключено. Весьма сложным выглядит в этом контексте и довольно широкое, едва ли не тотальное, использование бесплатности как принципа распределительной политики в кризисных ситуациях. Бесплатность лишает потребление избирательности и естественной меры. Диспропорции в объемах «охвата» нередко бывают на грани нелепости. Чрезмерные разовые запасы хлеба, в том числе и ценных местных сортов, вскоре обнаруживают себя почти целыми буханками или караваями на тротуарах и у костров. Один из самых уязвимых участков работы кризисного штаба с населением – оповещение его о местах и правилах получения прибывающих продуктов и одежды. Листовки об этом нередко раздаются руководителям организаций для распространения и плохо доходят до неорганизованного населения. В целом, отношение «штаб – население» развито преимущественно сверху вниз, реакция жителей на действия властей не изучается. Не предусмотрено и чрезвычайной службы по социальным вопросам. В связи с этим следует особо отметить отсутствие в структуре отношений помощи одного важнейшего компонента. Вероятно, не все функции опеки пострадавшего населения способно выполнять государство. В социально развитом обществе естественным образом складываются благотворительные, религиозные, потребительские и культурные движения, быстро заполняющие щели в мерах по социальному обеспечению, предпринимаемых вообще и особенно в таких случаях официальными органами. Поиск социально слабых групп, утешение, забота о немощных и подобное этому – ближе природе самодеятельных объединений. Речь идет не только о милосердии. Необходимо организовать взаимопомощь, контроль за распределением продуктов, одежды и палаток, сформулировать требования к власти по корректировке действий, затрагивающих интересы отдельных групп населения и т.д., словом, наладить чрезвычайное самоуправление в кварталах и микрорайонах – везде, где надо сплотиться для выживания. Наконец, в отношениях помощи есть свой этический элемент. Помощь не должна рассчитывать на благодарность. Сострадание и отклик есть потребность помогающего. Так и в обычных условиях. В кризисных же – группы помощи должны быть готовы к претензиям в свой адрес по части скорости и способов их действий, содержания и объема вклада в усилия по облегчению тягот пораженных групп населения.
Дальше. У прибывших в зону бедствия после первых гнетущих впечатлений от увиденного и рассказанного довольно быстро наступает некоторое привыкание к смерти, меняется отношение к ней. Похороны без ритуалов, повсеместно гробы (даже у пунктов питания), много детских (пожалуй, единственный предмет, который завезли в явном избытке); жители, ожидающие разборки завалов на своих жилищах, стали приспосабливать гробы под скамейки и емкости для сбора доставаемых пожитков. Вероятно, и у них происходят такие смещения. В этой атмосфере девальвации человек ческой жизни, предельной близости ее антипода, возникает негласная оправданность, приемлемость технократизма и бездушия в управлении, снижение порога чувствительности к страданиям.
7.5. Стрессовые решения Вероятно, можно утверждать, что чувствительность общества к катастрофам усиливается. Растет ценность жизни, повышается ее содержательность, качество, сокращается прирост населения: потери становятся ощутимее. Появляются и новые возможности предохранения от гибели и разрушений, спасания пострадавших и восстановления. Страх перед природными катастрофами институционализируется в международном масштабе: в Секретариате ООН создан Специализированный отдел по координации чрезвычайной помощи, а 90-е годы объявлены Десятилетием ООН по уменьшению риска стихийных бедствий. В правительстве России создана Комиссия по чрезвычайным ситуациям, есть теперь и Всероссийская ассоциация спасателей. Однако, высота порога чувствительности сильно колеблется. Она, конечно, резко снижается сразу после очередных землетрясений, аварий и т.п. Каждое из них вызывает массовый подъем внимания, протестов, начинаний, заверений. С последующим спадом. В промежутке, как известно, – пренебрежение опасностью, массовые уклонения от учений. Но постепенно нарастает отвращение к рискованным производствам (атомному, химическому и др.). Поэтому теперь появился новый раздражающий фактор: строительство подобных предприятий. Все более значимым становится явление массовых фобий: радиофобия, сейсмофобия, химиофобия и др.
Тут мы подходим к очень важной особенности, характеризующей управленческую ситуацию вокруг катастроф: абсурдность выбора решений. Начать с такой дилеммы: стоимость сохранительных мер вполне сопоставима с расходами на дальнейшую потребительскую экспансию. Одно за счет другого? И еще не все дилеммы приняты к рассмотрению. Скажем, будет ли производство автомобилей сверяться когда-нибудь с тем, сколько человеческих жизней (аварии, загазованность) приходится отдать за каждую новую сотню? Такая постановка вопроса логично вытекает из нынешней ситуации с экологией городов, но она совершенно невыносима для нашего управленческого мышления, она довольно чужда и для массового сознания. Самосохранение отступает перед потреблением. Реакции населения на прогнозы катастроф способны парализовать управление в критических ситуациях вследствие своей ажиотажности. При том, что власти очень настойчивы в своих требованиях, например, к сейсмопрогнозам, последние имеют довольно малую подтверждаемость. А меры по защите населения и имущества весьма дорогостоящи. Когда американские геофизики предсказали сильное землетрясение в Перу, то правительство этой страны мобилизовало огромные ресурсы, провело широкомасштабные мероприятия по предотвращению человеческих и материальных потерь. Страна, и без того слабая, буквально надорвалась от напрасного перенапряжения, ибо прогноз не подтвердился. С другой стороны, оправданные прогнозы нередко возбуждают панику с большими деструктивными последствиями. Сокрытие подобных сведений или удержание их в узком кругу руководителей невозможно, просачивающаяся оттуда информация обрастает неконтролируемыми слухами и ведет к хаосу. Но и открытое оглашение прогнозов чревато взрывной реакцией, ущерб от которой может быть сравним с потерями от самого землетрясения. Абсурдность кризисного управления еще больше заметна на стадии самого бедствия. Мародерство – одна из острых проблем как природных, так и промышленных или социальных катастроф. Это хорошо известно по описаниям событий после Чернобыля, Спитакского землетрясения, да и почти во всех других подобных случаях. Органы власти, конечно, преследуют грабителей. Но в первые часы, как и потом, неопределенно долго, спасатели не имеют налаженного обслуживания и единственный способ получить питание в
разрушенном городе – вскрыть ближайшие магазины или брошенные квартиры. В таких действиях мне признавались многие жители Ленинакана и их приехавшие на помощь родственники. Процесс распределения помощи «по рукам» в зоне бедствия полон жестоких инверсий. Если в пострадавшие кварталы въезжает один или несколько подъемных кранов, способных приподнять или сдвинуть бетонные плиты, под которыми – еще живые люди, то можно представить, какая борьба и какими средствами вспыхивает за каждый из них между родственниками погребенных. Похожее происходит и вокруг машин с продовольствием, одеждой, гробами, медикаментами, вокруг немногих дееспособных врачей. Совершенно невероятно обеспечить снабжение техникой, спасателями и прочим сразу и массированно. Первая же помощь с неизбежностью в чем то усугубляет страдания. Рациональные управленческие решения здесь пока не найдены. Можно ли технологизировать подобные процессы? Неизвестно. Социология катастроф у нас еще не сложилась, и за рубежом она пока не вышла из исследовательской стадии – к разработкам. Какие-то новшества и продвижения в этом направлении, как правило, возникают эмпирически и потом оформляются концептуально[69]. Примером таковых может послужить принцип, который я бы предложил назвать «несуверенитет катастроф». Он проявился и по поводу землетрясения в Спитаке, когда де-факто была принята норма: любая катастрофа такой силы – проблема всего человечества. Зона бедствия как бы приобрела экстерриториальность с открытым и немедленным доступом любой зарубежной помощи. Именно на такой способ действий и рассчитаны такие, например, организации, как «Международный корпус спасания», с центром в г. Марлоу, Британия, – некоммерческое, добровольное объединение пожарных, спелеологов, врачей и других, готовых немедленно отправиться в любое место на Земле. Но, конечно, необходимо разрабатывать социальные технологии по подготовке властей, организаций и жителей к предсказуемым потрясениям, а также по выходу из них с учетом социальных, психологических, правовых и экономических аспектов.
РАЗДЕЛ III. К ЧЕМУ МЫ ДВИЖЕМСЯ? СУБЪЕКТЫ И ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Глава 8. Новый облик субъектов социальной активности
8.1. Субъекты социальной активности и социальная структура кризисного общества Рассматривая «измерение» общества: «к чему мы стремимся?» необходимо прежде всего раскрыть скобки традиционного и привычного «мы», интерпретировать его социологически, а это значит перевести на язык социальной структуры и субъектов социального действия. И тогда сразу же обнаруживается, что «мы» не есть некое единое, монолитное, однородное образование («мы» – советский народ), а глубоко противоречивый, неоднородный, стратифицированный и даже антагонистический континуум, состоящий из классов, слоев с несовпадающими, а зачастую полярными друг другу, ценностно-нормативными системами, нравственными принципами, политическими и экономическими интересами. Те глубинные изменения, которые в настоящее время происходят в социальной структуре, можно кратко определить как переход: – от бессубъективности тоталитарного общества – к полисубъектности гражданского общества; – от сословно-иерархической – к классовой структуре; – от «класса в себе» к «классу для себя». Два взаимосвязанных и дополняющих качества характеризуют социальную структуру тоталитаризма: а) аморфность и
бессубъективность; б) жесткая структурированность и иерархизированность. На первое качество обращают внимание Б.А.Грушин[70] и Ю.Н.Давыдов[71]. Для тоталитаризма и тоталитарной бюрократии общество должно быть превращено в аморфный, абсолютно пластичный материал, а таким идеальным материалом оказывается люмпен – человек без корней, не имеющий ничего за душой, главное орудие всеобщей нивелировки и уравниловки, ударная сила социальной энтропии2. Исключительно точно и образно анализирует феномен аморфности М.Мамардашвили в своей последней работе «Мысль под запретом». Он сопоставляет гражданское общество европейского образца, которое начало складываться в XIV веке и члены которого жили сложной, дифференцированной жизнью, образуя чрезвычайно сложное переплетение нитей в социальной ткани. «У нас же социальная ткань упрощена до предела и общественная жизнь редуцирована дальше некуда: общество гомогенно, как может быть гомогенна магма. Эта магма не имеет никакой структуры, она расплывчата и податлива – достаточно легкого толчка... В обществе нет структур, между которыми были бы перегородки – а только они могли бы послужить неким буфером, тормозом на пути такого рода воздействия… Рыхлое тело поддается мгновенно, проницаемо насквозь,... ибо лишенное структуры и дифференции, оно рыхло и дрябло»[72]. Соглашаясь с мыслью М.Мамардашвили и других авторов об аморфности (магматичности) тоталитарного общества, хотелось бы уточнить вопрос о его структурированности. Всякое общество, даже самое архаичное, имеет свою социальную структуру и иначе не может функционировать; суть заключается в природе самой этой структурированности – вертикальной или горизонтальной. В первом случае общество строится по военно-командному образцу и не имеет автономных и самоуправляющихся структур, независимых от унитарного центра. Во втором случае общество такие структуры имеет и они-то, по мысли М.Мамардашвили, и образуют «перегородки», зоны свободной самодеятельности и независимой мысли. Тогда социальная ткань его действительно состоит из «клеточек», связанных между собой, но имеющих самостоятельные, особые и не тождественные функции.
Тоталитарное общество аморфно, бессубъективно, но не бесструктурно. Стержнем его является «вертикаль» государственной собственности, вертикаль внеэкономического принуждения и ре-дистрибуции на базе монопольно-государственной собственности, а стало быть и огромная социальная иерархия, которая образуется вокруг этой вертикали на основе властных отношений. Если в современном классовом обществе «собственность есть власть», то в тоталитарном – «власть есть собственность», доступ к власти открывает путь к фактическому владению и произвольному распределению огромной общественной собственности. Такое положение вещей роднит и сближает тоталитарное общество с архаическими ступенями цивилизации – с азиатским способом производства, с рабством и крепостничеством. Но «рефеодализация» советского общества не могла не изменить его социальной структуры, не могла не повернуть ее вспять от социально-классовой к сословно-иерархической структуре, типичной для традиционного общества. Во-первых, в советском обществе первоначально уничтожаются политические условия для существования экономических классов – их право на самостоятельность в любой сфере общественной жизни, на горизонтальные связи между собой и саморегуляцию. Принцип «продразверстки» наносит величайший удар по демократическим правам и свободам, ограбляет и пожизненно закрепощает миллионную массу производителей. Во-вторых, в советском обществе перестают действовать экономические источники классообразования – прибыль, рента, заработная плата, они заменяются статусной рентой – зримым и незримым доходом от места в социальной иерархии, системе редистрибуции. Наконец, уничтожаются идейные, нравственные и культурные условия, отчуждается историческое сознание и самосознание классов. Все заменяет собою «унылая суздальская мазня «серым по серому»» казенно-официальной идеологии. Отчуждение от власти, затем экономическое, нравственное и социокультурное отчуждение рассмотрены Н.И.Лапиным как слои или стадии процесса отчуждения общества от социального развития[73]. Исторически неизбежным результатом этих процессов отчуждения явилась регенерация, возрождение сословной иерархии в том обществе, которое призывало и претендовало покончить с любыми социальными иерархиями.
Маяковский в конце 20-х годов с горестным недоумением восклицает: «Мы глядим, уныло ахая, как растет от ихней братии архиразиерархия, издевательство над демократией! » «Ихняя братия» возродила сословия в стране, которая только в феврале 1917 г. отменила сословность. Это были сословия новой, политической, идеологической, хозяйственной и иной «элиты», это были сословия бесправных и отчужденных от власти и собственности рабочих, крестьян, интеллигенции. Экономической опорой этой сословности или несословкости были: такое разделение труда, где гипертрофированная индустрия подавила аграрную сферу и сферу услуг, материальное производство – духовное, а военное производство – любое гражданское; такой институт собственности, где единственным субъектом является высшие сословия; такой институт заработной платы, который распределяет не «по труду», а «по власти», является превращенной формой присвоения прибавочной стоимости и сверхэксплуатации; такие институты власти, которые делают группу и личность не субъектом политической деятельности, а объектом политического насилия и подавления, шестеренками и винтиками огромного тоталитарного механизма. Таким образом, вся экономическая и политическая сфера, все основные социальные институты были подогнаны под одну колодку, и ею оказалось величайшее социальное рабство, в котором когда-либо пребывал человек. Социальная структура включает в себя не только планы функциональный (связь форм социальной деятельности) и организационный (связь субъектов социальной деятельности), но и структуру самого социального действия, мотивационный механизм взаимодействия между безличным (институты и сферы) и личным (группы и личность) элементами социальной структуры. Мотивационный механизм или элементы социального действия – это цели и средства, мотивы и стимулы, нормы и образцы, программы и подпрограммы[74]. Тоталитаризм формирует в массовом масштабе три основных элемента социального действия: во-первых, бесприкословное повиновение системе, во-вторых, безудержное иждивенчество у нее и социальный инфантилизм, в-третьих, люмпенизированное сознание всеобщей уравнительности, пренебрежение к духовным и нравственным ценностям и чисто глупостной национальной кичливости «самым передовым обществом в мире». За семьдесят лет были сформированы тс экономические,
политические, идейные и нравственные устои, на которых покоилась неосословность и социальным «резюме» которых она являлась. Неосословность воспроизводила известные родовые черты всякой сословности – систему привилегий, кастовость, корпоративность, барьеры и градации, эндогенность, знаковый характер поведения и психологии[75]. Вместе с тем: а) привилегии не были наследственными, но обеспечивали место под солнцем для потомства элиты; б) права и обязанности не фиксировались, но были неписанными правилами аппаратной игры; в) никакие «кодексы чести» не регулировали поведение высших сословий, за исключением «морального кодекса строителя коммунизма», предписанного ими для низших сословий; г) существовал «лифт мобильности» из низших сословий в высшие – партийно-комсомольский, затем военный, хозяйственный, научный и т.д.; д) существовали социальные перемещения, как единственный тип горизонтальных связей (из крестьян – в рабочие и интеллигенцию, из рабочих – в интеллигенцию). Перемещения с обратной направленностью были крайне редки. Важнейшим признаком неосословности является то, что она была оборотной стороной аморфности и бессубъективности общества. Парадокс тоталитаризма состоит в том, что субъект в нем находится не внутри гражданского общества, а выносится за скобки общества, становится над ним. Аналогичные процессы происходили в традиционных обществах восточного типа. А.И.Фурсов справедливо отмечает: «По сути, это самоотчуждение общества и вынесение субъекта за его рамки в виде мирового закона (дао, карма) или зооморфных богов»[76]. В тоталитарном обществе за скобки выносятся либо «раса» (тысячелетний азиатский рейх), либо «класс» (закон мировой пролетарской революции, мировой закон перехода от капитализма к коммунизму), за скобки выносится синкретическое образование – единство партия-государство-общество (тоталитарный синдром), как единосущная Троица или Верховное Божество. Внутри же самого общества появляется социальный носитель этой божественной троицы, безошибочный оракул и провозвестник ее велений, блюститель чистоты и незапятнанности духа и буквы мирового закона. Слияние реальных партий и государства в единое
образование «партия-государство» рождает единственного реального субъекта социальной активности в этом обществе – его высшие сословия – политическую, идеологическую, военную и хозяйственную элиту. Все остальные сословия – а это подавляющее большинство общества – бессубъективны. Но и с субъективностью правящих сословий дело обстоит не лучшим образом. Они живут в мистифицированном и мифологизированном мире. Для того, чтобы сохранить реальную власть и собственность, они должны все больше и больше подчинять, насиловать, искажать действительность, втискивать ее в искусственные схемы. Иными словами, они не являются субъектами рационального действия, а субъектами иррациональной (по М.Веберу – магической и аффективной) деятельности. Общество вновь возвращается к бессубъективности своих первоначальных стадий. В условиях тоталитаризма социальная структура приобретает моноцентрический характер (слияние социальных институтов), моносубъективность (подмена субъектов гражданского общества единственным субъектом партией-государством) и монизм структуры социального действия (единственная и обязательная для всех ценностно-нормативная система). Как отмечают Т.И.Заславская и Р.В.Рывкина[77], социальная структура такого рода играет тормозящую роль по отношению к экономике, она не стимулирует труд, не поддерживает инновационный процесс, она не совместима с научно-техническим прогрессом и информационной революцией. Тоталитарное общество нежизнеспособно в период перехода к новому, более высокому типу цивилизации. Оно может существовать относительно долго, но не бесконечно долго. Первые симптомы кризиса обозначаются уже в 1953–56 гг., а период полураспада занимает еще 35 лет. Какой же хотя бы гипотетически является сегодня социальная структура общества? Прежде всего, она неизмеримо более сложна, чем формула социальных примитивистов – два класса плюс прослойка. Далее, она определяется не только традиционными экономическими критериями, но и политическими, нравственными, социокультурными. Последние (неэкономические) критерии в революционные эпохи выступают на первый план, начинают доминировать и играть ведущую роль в процессе классообразования. Здесь нет ничего еретического по отношению к научной · социологии:
Макс Вебер весьма убедительно проанализировал этот феномен в своей «Протестантской этике». Говоря еще более точно, класс не есть только и всецело экономическое явление, дифференцируемое по содержанию и характеру труда, как много лет пыталась доказать наша социология. Класс есть явление социальное, поэтому он может дифференцироваться и по политическим, и по социокультурным признакам, и по ценностным ориентирам, установкам и предпочтениям. Социология до сего времени имела дело с сословием рабочих, разделенным на многочисленные профессиональные цеха; с сословием крестьян, якобы свободным, на деле закрепощенным; с сословной интеллигенцией, якобы сближающейся с остальными классами, а на деле скудеющей материально и духовно, обездоленной и бесправной, лишенной свободного слова и мысли, но в то же время представляющей особую корпорацию, которую искусно противопоставляли рабочим и крестьянам. Процессы, протекающие в 80–90 гг. в крупных социальных группах общества, можно назвать процессами политической и экономической поляризации и маргинализации общества. Социальная структура страны представляет собой модель с двумя полюсами – старой и новой элитой, между которыми, как в магнитном силовом поле распределяются консервативные и демократические слои бывшей тоталитарной Империи. Каждое из бывших сословий постепенно становится субъектом социального действия. Происходит процесс, давно известный как превращение «класса в себе» в «класс для себя». Исторический парадокс заключается в том, что этот процесс происходит с рабочим классом почти 75 лет после того, как он был торжественно провозглашен и возведен в ранг господствующего класса. В действительности, Его Величество рабочий класс только поднимается к борьбе за свои права – ибо он был лишен права на борьбу, он вновь обретает свое достоинство, свою организованность, свою солидарность и самостоятельность, так как все это у него было отнято в «царстве рабочих и крестьян». Аналогичные процессы происходят в крестьянстве, интеллигенции и других слоях. Как же понять, представить, измерить эту политическую и нравственную поляризацию социальной структуры, ее стратификационный раскол по вертикали и горизонтали в каждой социальной группе?
8.2. Идеально-типический подход к проблеме Для того, чтобы раскрыть новый облик субъектов социального действия, наиболее целесообразен, на наш взгляд, идеально-типический подход. Согласно М.Веберу идеальный тип не есть непосредственное отражение действительности, но некоторая мыслительная конструкция, некоторая «утопия», с которой сравнивают и сопоставляют действительность, некоторая «гипотеза гипотез», расхождение или совпадение которой с действительностью позволяет выявить причинные связи процесса развития[78]. Введем понятие «социальный тип», под которым будем понимать отношение социальной группы к социальному институту. Тогда это отношение представляет либо принятие (тип консерватора), либо отрицание (тип прогрессиста) старых социальных институтов, либо принятие существующих экономических и отрицание политических, либо принятие политических и отрицание экономических институтов (маргиальные типы слева и справа). Поскольку любая крупная переломная эпоха связана с изменением общественной формы социальных институтов и иерархии социальных групп – постольку эти социальные типы (особенно прогрессист и консерватор) являются устойчивыми и повторяющимися, но каждый раз новыми по своему социальному содержанию. В переломные эпохи социальные типы выряжают и отражают социальные изменения и процессы существенно более контрастно и определенно, нежели сами социальные группы (типы якобинца, жирондиста, термидорианца и роялиста в 1789 г., типы революционного демократа, либерала и «ретрограда» в 1861 г., левого коммуниста, правого и левого «учредиловца» и монархиста в 1917 г. и т.д.). Гипотетически, в основание типологии можно положить бесконечное множество переменных и тем самым получить бесконечное множество квадрантов. Но такого рода абсолютный релятивизм ведет социологию в дурную бесконечность. Если мы вводим критерий социальной значимости, то по нему отбираются немногие, но наиболее существенные переменные (экономические: разделение труда, собственность, зарплата; политические: демократические права и свободы, государство, партии; образовательные: квалификация и т.д.). Еще до осуществления исследования «Наши ценности сегодня» был проведен анализ имеющихся в литературе социальных
типологий (А.В.Захарова, Б.З.Докторова, Л.Бызова, Ю.Л.Левады, Л.А.Гордона). Все рассмотренные типологии имеют общие основания: экономическую ось от минимума к максимуму свободы экономической деятельности (от равенства к неравенству) и политическую ось от минимума к максимуму свободы политической деятельности (от тоталитаризма к демократии). Пересечение этих осей дает следующие типы:
Эти типы образуют следующий квадрант (рис. 4) Исторически – «эгалитарист» (пролетарско-якобинский революционный уравнитель) и «консумист» (производительно-потребительский деятельный тип) – более ранние социальные типы, нежели современные «прогрессист» и «консерватор» (они складываются еще на рубеже XIX и XX вв.). После 1917 г. эти типы подверглись «расщеплению» и трансформации. Современный консерватор «вышел» из эгалитариста и формально сохраняет эгалитаристское сознание, органически соединенное с авторитаризмом. Современный прогрессист также «вышел» из эгалитариста, но представляет его отрицание – он порывает с экономической уравниловкой и деспотией и устремляется к свободе как политической, так и экономической.
Рис. 4. Социально-исторические типы.
8.3. Построение квадранта социально-исторических типов Отбор переменных для квадранта происходил экспериментальным путем. По правилам факторного анализа из 11 политических переменных были выбраны три, связанные в единый фактор: демократические, права, демократические свободы, процент поддерживающих все демократические права и свободы. Из 10 экономических переменных связались в единый фактор тоже три: равенство доходов, неравенство доходов, свобода экономической деятельности. Таким образом, квадрант представляет отношение социальных групп к свободе политической деятельности (от минимума к максимуму) и к свободе экономической деятельности (от минимума к максимуму). Индикаторами этих отношений являются переменные: а) свобода слова, свобода организаций, право на
эмиграцию и поддержка всех демократических свобод; б) должна или не должна быть разница в доходах и большая свобода экономической деятельности (см. табл. 14).
Таблица 14. Основной квадрант (в %% от числа опрошенных)
Пропорции квадранта несколько варьируют при анализе (в пределах 1%), но основная масса консерваторов – до 18%, прогрессистов – 22%, эгалитаристов – 8%, консумистов – 10%. Фактически – это «ядро» групп, т.к. к ним примыкает до 8–10% промежуточных, не попадающих в анализ. Вместе с тем, простое разделение всего массива на 4 группы дало бы гораздо менее интересные результаты: группы стали бы примерно равными (до 25%) и существенно менее контрастными. Всего дальнейший анализ охватывает 4 основные группы (60% респондентов) и маргиальную (40%), данные по которой не являются контрастными, а совпадают практически с общим распределением. Применение кластерного анализа позволило бы охватить все 100% опрошенных, но это дает менее четкую, неконтрастную характеристику типов, консерватор и прогрессист сжимаются до 15%, эгалитарист увеличивается до 30%, консумист (темное сознание) до 40%. В дальнейшем будут изложены результаты факторного анализа. Социальные типы не существуют вне и независимо от реальных социальных групп (классовых, профессиональных, территориальных и т.д.). Они существуют только в составе этих групп, в процессе их функционирования и развития, как определенные социальные качества, которыми обладает часть (большая или
меньшая) каждой конкретной социальной группы. И наоборот, социальные типы обладают интегрирующим свойством и наделяют совокупными характеристиками представителей конкретных социальных групп. Эгалитарист как тип распространен преимущественно среди рабочих и части интеллигенции, он, как правило, потомственный житель среднего и крупного города, его основная возрастная группа 25–34 года, он достаточно образован. Прогрессист как тип охватывает 40% рабочих и интеллигенции (при общем удельном весе этого типа в 22%), более всего концентрируется в среднем и крупном городе, имеет большой возрастной диапазон (25–55 лет), наиболее высокую квалификацию (в частности, по законченному высшему образованию). Консерватор как тип наиболее распространен в крестьянстве, это прежде всего (на 50%) житель деревни и села, его возрастной диапазон – от 40 лет и старше, его образовательный ценз, как правило, низок. Консумист – наиболее неопределенный тип, который характерен для 20% рабочих, 15% крестьян, 15% интеллигенции, обитает в селе, рабочем поселке, малом городе, возраст – 30 лет и старше, образовательный ценз противоречив: у части очень низок, у другой – очень высок. Мы получили некоторые «локальные» характеристики социальных типов – их распространенность в макрокосме социальных групп. Каждая социальная группа является реальным носителем всех социальных типов – но в разных пропорциях, в разных соотношениях. Социальные типы выступают определенными «узлами связи» между и внутри социальных групп и одновременно средствами их дифференциации – внутренней и внешней.
8.4. Экономические и политические ориентиры: типология и оценка настоящего В наше время происходит дезинтеграция старых социальных институтов и формирование новых. Исследование показывает устойчивую ориентацию одних социальных типов на демократический и цивилизованный выбор, других – на старые общественные формы. Так, доля прогрессистов, выбирающих рыночную экономику, в три раза выше, а выбирающих плановую экономику в три раза
ниже, чем у консерваторов. Демократическую форму правления выбирают в 2,5 больше прогрессистов, строгий правительственный контроль – в 2,5 больше консерваторов. Со свободой выхода союзных республик из состава СССР было согласно в 4 раза больше прогрессистов и не согласно вдвое больше консерваторов. Треть прогрессистов не согласны с формой федерации и около 60% из них уже в 1990 г. были согласны с конфедерацией суверенных государств (у консерваторов соответственно 6 и 16%). Линия размежевания по формам собственности в июне 1990 г. пролегла между консерватором и эгалитаристом (более склонными к государственной собственности), с одной стороны, и прогрессистом и консумистом (более склонным к переходу части государственной в частную собственность), с другой. Таким образом, по ключевым вопросам нашего настоящего социальные типы дают такую же дифференцированную и поляризованную картину, что и историческая ретроспектива. Перед нами разные, контрастные по своим основным экономическим и политическим «основниям» («потребностям, интересам, ценностям», если употреблять последовательность этих понятий, предложенную А.Г.Здравомысловым)[79] социальные типы людей.
8.5. Исторические ориентиры: типология и оценка прошлого В соответствии с классической веберовской традицией социолог должен выяснить отношение субъекта к трем временным векторам: прошлому, настоящему и будущему. Историческими ориентирами послереволюционной эпохи являются отмена нэпа, коллективизация, массовые репрессии, культ вождя, драконовская дисциплина, жесткое детальное планирование, уравнение доходов и другие «феномены», весьма прочно связанные с тоталитаризмом, как общей системой, и тотальным отчуждением, как социальным механизмом этой системы. Сами по себе эти «феномены» не составляют ценностей (т.е. норм сознания и поведения), но отношение к ним – их одобрение «ли неодобрение – производится с позиций определенной ценностно-нормативной системы, принимающей или отрицающей тоталитаризм – либо полностью, либо частично. Ценностно-нормативные системы вырабатываются семьей, всем индивидуальным и
социальным опытом личности. Благодаря повторяемости и совпадению этих условий возникают одноименные ценностно-нормативные системы, массовые социальные типы, которые интегрируют индивидов в группы социального сознания, одинаково оценивающие те или иные исторические события и факты. Предложенная нами типология позволяла предположить, что прогрессист будет осуждать в нашем прошлом все антигуманное, антидемократическое и антилиберальное (сковывающее свободу экономической и политической деятельности). В противоположность этому консерватор должен будет защищать любую действительность, сколь бы «неразумной» и исторически тупиковой она не была. Конкретные данные показывают, что по этому пути идет большая часть, но не все прогрессисты, большая часть, но не все консерваторы (в силу того, что факторный анализ не выявил и не мог выявить идеально «чистых» типов, дающих только положительный или отрицательный ответ). Контрасты исторического сознания прогрессиста и консерватора весьма значительны. (Их фиксирует табл. 15 в приложении). Индекс согласия или несогласия прогрессиста с оценкой исторических фактов и суждений расходится от 1,5–2 до 4–5 раз с позицией консерватора. Это четко прослеживается по всему диапазону событий: от политики репрессий до религиозной политики. Глубокий демократизм, определяющий социальный тип прогрессиста, решительно отверг тоталитарное насилие: по отношению к личности, экономике, религии и т.д. Существенно отметить, что индексы эгалитариста и консумиста также расходятся с консерватором, но никогда (по согласию или несогласию) не превышают прогрессиста. Можно сделать вывод, что историческое сознание (оценка практики тоталитаризма) резко поляризована у основных типов и более сглажена у маргиальных. Важно также отметить, что эти маргиальные типы по отрицанию тоталитарного насилия ближе к прогрессисту, чем консерватору.
8.6. Социально-исторические типы и ценностные макропозиции Анализ ценностей, проведенный по 44 альтернативам, выявил наиболее сильную описательную роль первых четырех факторов (приложение, табл. 16). Фактор 1. «Повседневный гуманизм»
11 сильных интегрирующих ценностей и 4 отрицания дифференцирующих ценностей. Этот фактор идет по нарастающей у прогрессиста и косумиста, по убывающей – у консерватора и эгалитариста. Фактор 2. «Эгоистический эгалитаризм» 6 сильных дифференцирующих ценностей индивидуалистического или эгоистического порядка. Этот фактор идет по нарастающей у консерватора и эгалитариста и по убывающей – у прогрессиста и консумиста. Фактор 3. «Патриотический конфоризм» 4 сильных интегрирующих ценности и 7 отрицаний дифференцирующих ценностей. Этот фактор нарастает у консерватора и консумиста и убывает у прогрессиста и эгалитариста. Фактор 4. «Социализированная предприимчивость» 4 сильных дифференцирующих ценности деятельного порядка. Этот фактор (как и фактор 1) нарастает у прогрессиста и консумиста и довольно равномерно (по 1/3) распределен у консерватора и эгалитариста. В таблице 17 (приложение) сделана попытка выявить удельный вес интегрирующих и дифференцирующих ценностей у социальных типов. Анализ показывает: а) Интегрирующие ценности, как правило, преобладают над дифференцирующими у прогрессиста и консумиста, дифференцирующие у консерватора и эгалитариста. б) При этом у прогрессиста гуманистические ценности явно преобладают над конформистскими, а деятельные дифференцирующие – над эгоистическими. в) У консерватора конформистские ценности преобладают над гуманистическими, а эгоистические – над деятельными дифференцирующими. г) Аналогичная картина у консумиста по дифференцирующим ценностям, но преобладают конформистские интегрирующие. д) Эгалитарист дает некоторое преобладание гуманистических интегрирующих и эгоистических дифференцирующих.
8.7. Методологическое значение социальной типологии Совокупность всех ступеней тотального отчуждения выше определена как самоотчуждение общества от развития[80]. Логично предположить, что снятие тотального отчуждения или хотя бы некоторых его ступеней означает начало действительного социального развития и у его истоков лежит феномен современных социальных типов. Можно предложить два определения социальных типов: а) отношение социальных групп к институтам, б) актуализация социальных групп. Они не противоречат, а дополняют друг друга. Актуализация включает и отношение, и сознание, и самосознание. В переломные периоды социальный тип может: а) включать в себя несколько социальных групп (интегративная функция) и б) расчленить по векторам одну социальную группу (дифференцирующая функция). Социальный тип а) более точно, контрастно, выпукло и наглядно индицирует социальный процесс в переломные эпохи, нежели «сведение» к социальным группам; б) вместе с тем, социальные группы уже пришли в движение, но еще не выразили и не осознали себя. Это выражение и осознание происходит через социальные типы. Социальные типы (как показывают эмпирические данные) более тесно связаны с ценностно-нормативными системами (общечеловеческими или корпоративными нормами поведения). Можно также предположить, что они более непосредственно, нежели социальные группы, связаны с психологическими типами (более ригидными или более лабильными, конформными и неконформными и т.д.). Социальные типы представляют собой двойственный феномен – они есть некоторый конечный результат большого социального процесса и одновременно исток нового социального процесса, исток социальных движений, в ходе и в результате которых будут преобразовываться и социальные институты, и сами социальные группы. Из течения или водоворота социальных движений, благодаря интегративно-дифференцирующей функции социальных типов все классовые и демографические группы общества выходят новыми, они приобретают новое качество.
Что же такое социальные типы как не качества социального целого? При этом такие качества, которые (как и всякие качества) не существуют отдельно от социальных групп, а распределены в них, но при этом распределены каждый раз по новому, в иной пропорции для каждой социальной группы. Социальные группы – это конкретные части социального целого, из которых оно слагается. Социальные типы – это состояние социального целого, те качества, которые оно приобрело в данный период, те отношения, которые сложились между личным и безличным элементами этого целого и которые получили актуализацию и осознание именно в социальных типах. Таким образом, социальные типы – более абстрактное и интегративное состояние социального целого, но не менее реальное, чем образующие его части – социальные группы. И, наконец, социальные типы есть одновременно группы особого рода, а именно: группы социального сознания. Некогда мы хорошо заучили, что конкретные социальные группы продуцируют и собственное сознание – национальное, профессиональное, культурное и т.д., которое в конечном счете «сводится» к классовому, и в этом суть научной социологии. Но классы и классовое сознание – это только часть общества и только частное сознание. Более общее по отношению к классовому сознанию представляют социальные типы – это еще не все общественное сознание в целом, но его наиболее крупные фрагменты. Именно они осуществляют межклассовые взаимодействия, интегрируя или дифференцируя сознание рабочего и интеллигента прогрессистского толка или крестьянина и рабочего консервативного толка. Классовая и любая социальная группа выступает «материальным носителем» социального типа, в то время как сам социальный тип выступает способом ее актуализации, идеальным выражением ее взаимодействия (притяжения или отталкивания) с другой социальной группой или частью собственной группы. Если социальная группа дана непосредственно в своих эмпирических проявлениях (жизнедеятельности), то социальный тип, представляющий группу социального сознания, выявляется только через отношения между социальными группами и институтами, он сокрыт от глаз, как каждое качество II порядка, как каждое сложное общественное отношение и состояние социального целого.
8.8. Социальные типы и цивилизационный процесс Социальные типы, как уже отмечалось, являются, как правило, детищем переломных или переходных эпох, периодов ускорения процесса социальной эволюции. Генезис социальных типов тесно связан с общецивилизационным процессом и его особыми стадиями. Как уже было показано в главе 1 настоящей книги, можно выделить два крупных типа цивилизации: традиционный и современный. В конце XX в. начинают обозначаться черты третьего, более высокого и устойчивого типа цивилизации – постсовременного, ноосферного и антропогенного[81]. В рамках Великой социальной эволюции эти огромные переходные периоды могут рассматриваться как социальные революции, ведущие от одного качественного состояния общества к принципиально иному и каждая из таких революций есть сложная цепь общественных прогрессов и регрессов, мирных реформации и насильственных переворотов. То насильническое общество XX в., которое именуется «тоталитарным», есть, с точки зрения цивилизационного процесса, не что иное, как движение вспять, поворот от техногенного типа цивилизации к традиционному. Здесь социальная революция превращается в инволюцию. «Прошедшего житья подлейшие черты» тоталитарного общества представляли собой возрождение натурального хозяйства в масштабе страны, точнее превращение ее в огромный «феод», насильственно изолированный от мирового рынка; разрушение рыночного хозяйства и подмена экономических отношений политическим насилием и бюрократической редистрибуцией·, тотальную (предельную) форму отчуждения, как синтез внеэкономического и экономического принуждения; сословно-кастовое строение общества (партийная и хозяйственная номенклатурная аристократия, светские идеологические попы, элитарная часть науки и культуры против огромной «плебейской» массы рабочих, крестьян, интеллигенции), абсолютное всевластие военно-бюрократического «левиафана» партии-государства; разрушение основ гражданского общества, его десубъективизация; анабиоз или прямое физическое уничтожение субъектов социального действия; свертывание социального пространства как для «низов», так и для «верхов», соответственно, массовая деинтеллектуализация и обескультуривание
общества в целом; возрождение мифологических традиций и иррациональных сакрализованных культов (вождя, класса, партии и т.д.); социально-биологическая регуляция возвращается здесь к биосоциальной, когда к противникам «класса» и «расы» испытывают зоологическую ненависть и уничтожают их до «седьмого колена»; общая направленность на воспроизводство без каких-либо крупных социальных перемен всего «имперского», унитарного, казарменного пространства, отсюда до известной степени устойчивый (точнее «застойный») характер этого цивилизационного мутанта, симбиоза высшей военной техники с социальной архаикой – азиатского производства (государственное рабство), античного рабства (принудительный труд), крепостничества (закабаление крестьян), наемного рабства (неэквивалентный обмен физического и умственного труда). Тоталитарное общество следует рассматривать как «шаг вперед» (технический базис) и «два шага назад» (экономический базис и политико-идеологическая надстройка) в общем движении от традиционной к техногенной цивилизации и как серьезнейший симптом всеобщего кризиса самой техногенной цивилизации (наряду с мировыми войнами, распадом колониальных империй и обострением глобальных проблем). В фокусе этого общецивилизованного кризиса находится современное гражданское общество. Было бы неверным считать гражданское общество «вечной категорией, присущей всем временам и народам». Социальная структура – неизменный атрибут любого общества, каким бы примитивным оно ни было. Гражданское общество – продукт цивилизации на определенном (высоком) этапе ее развития. Поэтому отождествление понятий «социальная структура» и «гражданское общество» – неправомерно. К такого рода толкованиям приводит догматическое прочтение некоторых страниц «Немецкой идеологии», в то время как сам Маркс в конце 50-х годов фактически пересмотрел былое понимание гражданского общества и (вслед за Гегелем) датирует его новым временем. «Гражданское общество» выступает как пространство самодеятельности и саморазвития личности и отдельных социальных групп. Если в традиционном обществе личность была поглощена «естественными связями» (родом, семьей, классом), соответственно, несвободна, несамостоятельна, десубъективна, то, по мысли Маркса, в XVIII веке «гражданское общество» сделало гигантские шаги на пути к своей зрелости: Лишь в XVIII веке, в «гражданском обществе», различные формы общественной связи выступают по
отношению к отдельной личности просто как средство для ее частных цепей, как внешняя необходимость. Можно с достаточным основанием утверждать, что рассмотренные выше социально-исторические типы есть именно типы сознания и поведения современного гражданского общества и в своей классической форме впервые предстали в эпоху Великой французской революции. Здесь они определяются своей позицией по отношению к «старому режиму», абсолютистским институтам, сословности и личной зависимости человека от человека. Примерно эти же социальные переменные лежат в основе типов сознания эпохи реформ в России 60-х гг. прошлого века, когда начинает (с опозданием и отрывом от Западной Европы) складываться гражданское общество. После Октября 1917 г. его формирование начале затормаживается, а затем (когда основные цели демократической революции остаются нереализованными) «гражданское общество» распадается в СССР «всерьез и надолго». Гражданский мир (атрибут этого общества) сменяется перманентной гражданской войной партии-государства против неугодных классов, неугодных народов, неугодных конфессий, неугодной науки и культуры. Основное разделение социальных типов складывается вокруг элитарного сознания (правящая верхушка), конформистского сознания (экзальтированное большинство, отчужденное от исторических реалий и информации), несчастного сознания (социальных изгоев и париев) и нонконформистского сознания (людей с той или иной степенью полноты понявших антисоциальную и бесчеловечную природу тоталитарного строя). Примерно с середины 80-х гг. начинается все более ускоряющаяся перегруппировка социального сознания и образования новых социальных типов. Социальные типы отражают те устойчивые тенденции или состояния социальной системы, которые были выработаны исторически, десятилетиями социального развития и которые также не исчезнут в одночасье. Историческая устойчивость и длительность существования социальных типов объясняется их связью с историческими формами отчуждения. Консерватор как социальный тип является прямым порождением тотальной формы отчуждения, ориентирован на нее, оправдывает ее, хранит о ней ностальгические воспоминания и способен быть социальной опорой реванша за эту форму «старого режима».
Эгалитарист ориентирован прежде всего против вещной формы отчуждения и авторитаризма. Эта ориентация делает его двойственной, маргиальной фигурой – он может быть сторонником реваншистских сил, выступающих за восстановление тотального отчуждения, вместе с тем он может быть и сторонником прогрессивных сил, выступающих против тоталитаризма. Отсюда его колебания по ключевым вопросам. Консумист ориентирован против тотальной формы отчуждения и эгалитаризма, но, вместе с тем, он склонен принять вещную форму отчуждения и авторитаризм. Это также двойственная, противоречивая, маргинальная фигура. Прогрессист как социальный тип наиболее последовательно выступает против тотального отчуждения и авторитаризма, за свободу экономической и политической деятельности. Но и эта позиция, в своей сути, двойственна и противоречива: часть прогрессистов может пойти только по линии реставрации частной собственности, рыночных отношений, тем самым · вещной формы отчуждения. Другая часть прогрессистов может пойти по линии наиболее последовательного демократизма и социальной эмансипации, против всех и всяческих форм отчуждения, за более органичное соединение демократического и социалистического процессов, за соединение ничем не урезанных прав и свобод с социальной защитой условий труда и снижением социальной иерархичности и антагоничности общества. Появление этой линии, этой тенденции, этой модификации прогрессиста будет свидетельством того, что тяжкий, мучительный, трагический урок тотального отчуждения не прошел бесследно, а усвоен и учтен нашим обществом.
Приложение Таблица 15 Историческое сознание основных социальных типов[82] консерватора и прогрессиста
Таблица 16. а) Фактор 1 «Повседневный гуманизм»
б) Фактор 2 «Эгоистический эгалиторизм»
в) Фактов 3 «Патриотический конформизм»
г) Фактор 4 «Предприимчивый нонконформизм»
Таблица 17. Удельный вес интегрирующих и дифференцирующих ценностей но социальным типам
Глава 9. Формирование среднего слоя. Российская специфика
9.1. Средний слой – новый элемент социальной структуры российского общества Глубокое обновление нашего общества осуществимо лишь на основе пробразования системы экономических отношений, прежде всего с позиций преодоления отчуждения народа от собственности и политической власти. Существуют два основных направления в изменении экономических отношений и их сердцевины – отношений собственности – их разгосударствление и становление многообразия форм собственности. Итогом и целью этих преобразований должно явиться формирование многоукладной экономики, которая и служит экономическим фундаментом гражданского
общества и правового государства. Соответственно, существенные изменения должна претерпеть и социальная структура общества, прежде всего в том отношении, что в ней начнет активно формироваться так называемый средний слой, включающий массовую и наиболее экономически активную часть населения. Формирование в нашем обществе среднего слоя, рождаемого НТР, и связанного с новыми, рыночными формами хозяйствования – это начало в преобразовании наемных работников с низким уровнем жизни, полностью зависимых в своей производственной и непроизводственной деятельности от государства, в активных, относительно самостоятельных и относительно независимых от государства членов общества. В публицистической литературе довольно часто пишут о среднем классе как о классе предпринимателей, собственников. Между тем его состав не ограничивается ими. Это сложное социальное образование имеет свою внутреннюю структуру, исторические корни, ряд социально-экономических признаков. Исторически термины «средний класс» и «средний слой» возникли довольно давно. Ими стали обозначать совокупность общественных групп, занимающих промежуточное положение между крайними общественными классами. Так, К.Маркс писал о среднем классе современного ему капиталистического общества как о «многочисленном классе крестьян и ремесленников, которые почти в равной мере зависят от своей собственности и от своего труда»[83]. В IV томе «Капитала» Маркс признавал, что с развитием капиталистического производства происходит «постоянное увеличение средних классов, стоящих посредине между рабочими, с одной стороны, капиталистами и земельными собственниками, с другой»[84]. На рубеже XIX и XX веков Э.Бернштейн новым средним классом (или «сословием») назвал служащих. В книге «Проблемы социализма и задачи социал-демократии» Бернштейн, полемизируя с Марксом, писал: «Если крушение современного общества стоит в зависимости от исчезновения средних единиц... если оно обусловлено поглощением этих средних единиц крайними верхними и нижними элементами, то в Англии, Германии, Франции оно в настоящее время так же далеко от своего осуществления, как и в любую из прежних эпох девятнадцатого столетия»[85].
Вполне солидарен с Э.Бернштейном и П.Сорокин, который проанализировал данные о доходах населения со второй половины XIX века до начала XX века в Германии, Англии, США и пришел к выводу, что не оправдался прогноз Маркса о том, что средних экономических классов становится все меньше, и они постепенно беднеют. «75 лет» которые пролетели со времени выпуска «Коммунистического манифеста», не оправдали ожиданий Маркса и не подтвердили его пророчество», – писал П.Сорокин в своей книге «Социальная мобильность»[86]. В своем эссе «Восстание масс», написанном в 1930 г. Ортега-и-Гассет провидчески описывает появление среднего человека, человека-массы, занявшего место бывшего меньшинства, его психологию, его мироощущение.[87] «В наше время, – писал Ортега, – у среднего человека есть все то, что когда-то определяло жизнь немногочисленных слоев общества. Средний человек – это тот стержень, вокруг которого вращаемся история»[88]. Ортега рисует определенный психологический тип, для которого «суверенитет любого человека, суверенность человека как индивида... превратилась из идеи и юридического идеала (которым была) в реальность, стала неотъемлемой частью психологии среднего человека», но вместе с тем, считал Ортега, этому типу свойственны духовная ограниченность, ущербность и крайнее самодовольство. В современных исследованиях сложилось, несмотря на некоторые различия в подходах, определенное содержание понятия «средний слой» или «средний класс». К нему относят научных и инженерно-технических работников, управленческий, административный персонал, не занимающий высших постов, работающую по найму интеллигенцию, городских и сельских мелких собственников, в том числе большую часть крестьянства и фермерства, рабочих высокой квалификации, работников сферы обслуживания и др. Их состав определяется прежде всего по таким признакам как доход, образование, образ жизни, общественный престиж, оценка людьми своей классовой принадлежности. Комплекс этих признаков отличает средний слой от рабочих традиционного физического труда, работающих по найму, более высоким доходом, интелектуально более содержательным трудом, большей независимостью от течения технологического процесса. Средние слои
современных западных стран – это порождение индустриального общества, в котором поточные методы производства создают стандартизованные высокотехнологические предметы потребления, обеспечивая рост уровня и качества жизни наиболее массовой и экономически активной части населения. Экономические, политические, социальные интересы средних слоев стали определять политику правящих партий развитых стран. Концепции среднего класса служат органической частью теории нового индустриального общества Джона Гелбрейта, а также более общих теорий индустриального общества Раймона Арона и постиндустриального общества З.Бжезинского, Даниела Белла. Современные исследования средних слоев показывают, что это социально неоднородное образование представляет собой сложную сеть социальных слоев, различных по источникам формирования, социальной природе, имеющих внутреннюю иерархию. Границы среднего класса жестко не фиксированы, между его слоями постоянно происходит социальная диффузия, а крайние слои осуществляют социальное перемещение не только внутри, но и за пределы среднего класса. В современных развитых странах принято различать «традиционные» или «старые» средние слои, объединяющие мелких частных собственников (сфера мелкого и среднего бизнеса, фермеры и т.д.), и «новые» средние слои, включающие лиц, владеющих интеллектуальной собственностью, развитыми навыками сложной трудовой деятельности: менеджеров, интеллигенцию, лиц свободных профессий, служащих, высококвалифицированных рабочих и т.д. Тенденции развития социальной структуры идут в направлении сокращения удельного веса «традиционных» и роста «новых» средних слоев. Несмотря на то общее, что существует между представителями этих двух образований, на их взаимное проникновение, они по большому счету противостоят друг другу в своих устремлениях. «Старые» слои (в их составе различаются «самостоятельные», имеющие собственное дело, и «несамостоятельные», работающие по найму представители традиционных профессий), имеют тягу к консервативной идеологии и политике. Они выступают за стабильность и порядок, за устои и основы. Они являются буржуа до мозга костей. Как пишет немецкий социолог Б.Франке, консерватизм для мелкой буржуазии скорее политическое убежище, чем политическая родина. К нему она прибегает не по собственным устремлениям, а из-за присущего ей антилиберализма и
антисоциализма. Консерватизм же видит в мелком буржуа своего сторонника, любимого подданного, а не равноправного партнера. Б.Франке метко отмечает, что мелкая буржуазия в каких-то отношениях вовсе не является мелкой. Хотя ее мир действительно невелик и представляет собой замкнутое целое, на него ориентируются правительства, редакции изданий, его печать можно отыскать на индустрии досуга и в культуре. Стремление к обновлению можно ожидать исключительно от «нового», «несамостоятельного» слоя в составе среднего класса – от наемных служащих и особенно технической интеллигенции.[89] Среди современных исследований средних слоев интерес представляет точка зрения финского социолога М.Кивинена, который полагает, что исследование места и роли в социальной структуре общества среднего класса должно основываться на типологии автономной трудовой деятельности[90]. Он выделяет семь типов автономии трудовой деятельности. «Профессиональная автономия» характерна для экспертов-консультантов, не выполняющих управленческих функций, которые пользуются широкими возможностями для творчества и обладают высокой степенью самостоятельности в труде. Существует, главным образом, в сфере культуры, науки, идеологии. «Автономия, адекватная капиталу» присутствует в деятельности менеджеров и предпринимателей при осуществлении ими функций контроля и управления. «Научно-техническая автономия» характерна для инженерно-технического персонала. Отличие от первых заключается в меньшей самостоятельности, необходимости подчинения управленческим структурам, отсутствии привилегий, которыми обладает менеджмент, и более низким доходом. «Автономия служб воспроизводства и попечительства» существует в здравоохранении, образовании, социальном обеспечении. Особенность этого типа автономии состоит в том, что многие работники подвергаются давлению со стороны бюрократических организаций и поэтому степень их самостоятельности различна. «Автономия работы в офисе» характерна для административного персонала низшего звена и конторских работников. «Автономия мастерства» базируется на знании и умении, полученном непосредственно в трудовом процессе. Ею обладают мастера и высококвалифицированные рабочие как современного, так и ремесленного типа, отличающиеся тем самым от основной массы
неквалифицированных рабочих. «Автономия мелкого предпринимательства» свойственна как владельцам небольших предприятий, так и их персоналу. Для владельцев предприятий специфичным является относительно высокий уровень самостоятельности и патерналистские черты управления, а для персонала – выполнение широкого круга производственных задач, сочетание горизонтального и вертикального разделения труда. Выделенные типы «автономии» использованы М.Кивиненом для характеристики среднего класса современного западного общества – его «ядра» и маргинальной группы. Ядро среднего класса включает в себя лиц, обладающих первыми тремя типами автономии: «профессиональной», «адекватной капиталу», «научно-технической». Эти люди имеют высшее образование, являются специалистами высокого класса, работают в тех областях, где существуют условия для обогащения содержания труда и наиболее полного раскрытия творческих способностей. Подавляющее большинство специалистов работают по найму в крупных организациях, имеют хорошие возможности продвижения по службе. «Маргинальная» группа среднего класса включает в себя работников, обладающих четырьмя последними типами «автономной трудовой деятельности». Отличительной особенностью маргинальной группы является то, что входящие в ее состав работники занимают промежуточное положение, сочетая в себе различные черты «ядра» среднего класса и рабочего класса. Усиленный рост средних слоев в западных странах проходил в 50-е и 60-е годы под влиянием развертывания НТР и проводимой в этих странах социально-экономической политики. Именно в эти годы быстрое развитие и преобладание получила кейсианская теория капиталистического производства[91]. В теории Кейнса и его последователей решалась проблема соотношения спроса, занятости и дохода по отношению к приросту инвестиций, обосновывалась и практически разрабатывалась система регулирования государством производства посредством бюджетно-кредитного обеспечения устойчивости экономического роста. Практическое применение теории Кейнса позволило решить проблему увеличения покупательной способности населения, способствовало сокращению безработицы, содействовало повышению жизненного уровня населения, формированию средних слоев общества. Эти задачи были соединены с задачей развития
хозяйства и тем самым была решена проблема экономической безопасности, предотвращения угрозы частичного или полного распада хозяйственных связей в национальных и международных масштабах[92]. Хозяйственный механизм, основанный на неокейнсианских формах и методах экономического и социального регулирования, создал условия для длительного и устойчивого роста доходов широких слоев населения. Однако, по прошествии времени на рубеже 70-х – 80-х гг. была резко ослаблена необходимость в постоянном государственном поддержании «эффективного спроса». Одновременно изменилась направленность экономического и научно-технического прогресса, создались объективные условия для развития мелких и средних предприятий с высоким уровнем технического и информационного обеспечения. Все это по-новому поставило старый вопрос – об оптимальном соотношении государственного регулирования и стихийных сил рынка. Центр исследований и практических разработок переместился с проблем регулирования к проблемам самого рынка – как высвободить стихийные рыночные силы самодвижения и саморегулирования от сдерживающих их и искажающих ограничений. Характерно, что неоконсерватизм, в США ставящий задачу отказа от жесткого антициклического регулирования и высоких налогов, в Европе – от денационализации и приватизации значительной доли государственной и муниципальной собственности, сейчас находит поддержку средних слоев общества – самых многочисленных, экономически активных и конкурентоспособных. В развитых западных странах средние слои составляют до 60-и более процентов населения. Они обживают обширные пригороды или ухоженные городские кварталы, создают хорошие школы и другие муниципальные службы, свои торговые центры, автосервис и т.д. Эти слои, обладающие высокими профессиональными знаниями, активно воздействуют на общество в целом, его экономику и политику в особенности. Они считают вопросом первостепенного значения осуществление «справедливого неравенства», обосновывая новый, антиуравнительный подход к проблеме справедливости. Основная масса этих людей работает по найму, принося своим трудом прибавочную стоимость, обладает богатством профессиональных знаний, развитыми волевыми и творческими силами. Они выступают против принудительного изъятия государством части
своего дохода для поддержки маргиального слоя, против равенства с непрофессионалами в решении производственных вопросов, поддерживают технологический прогресс, даже если он чреват безработицей и т.д.[93]. Вместе с тем, государство, изымая налоги с доходов обеспеченных групп граждан, в том числе среднего слоя, имеет возможность создавать фонды социальной зашиты наиболее уязвимых групп населения. Можно сказать, что средние слои не только создают экономический прогресс, но и придают устойчивость экономическим и политическим отношениям в развитых странах. Переживаемый Россией в настоящее время переходный период чрезвычайно важен для перспектив экономического и социально-политического развития. Сейчас остро стоит проблема: какие социальные группы, ориентированные на рыночную экономику, получат приоритетное развитие. Первый вариант: крупные собственники, администраторы из бывшей номенклатуры, представители крупного теневого бизнеса, способные организовать эффективное производство, или же – второй вариант: массовые слои граждан, владеющие собственностью в результате проведения приватизации и разгосударствления. Наибольший экономический эффект в скором будущем дал бы первый вариант, но с учетом перспективы и социально-политических последствий предпочтительнее второй. Здесь уместно обратиться к опыту латиноамериканских стран. В докладе, подготовленном Экономической комиссией ООН отмечается, что здесь экономический кризис 80-х годов (схожий, кстати, с ситуацией в нашей стране) способствовал дальнейшей дифференциации латиноамериканского общества[94]. Его элита сумела приумножить свои богатства, обращая принадлежавшие ей финансовые средства в твердую валюту и направляя их в иностранные банки. Образ жизни и линия поведения этой верхушки представляли собой вызов всему латиноамериканскому обществу. Положение большей части средних слоев (особенно служащих и интеллигенции) заметно ухудшилось. Широкие же массы трудящихся по своему жизненному уровню все более приближаются к маргиналам. Именно отсутствием необходимой увязки экономического прогресса с социальной справедливостью авторы доклада объясняют замедленный рост региона. Сравнительный анализ
экономической политики рада европейских и азиатских стран, близких по своим характеристикам латиноамериканским государствам (Испания, Португалия, Южная Корея, Тайвань, Таиланд), показывает, что их заметные успехи в экономике в немалой степени определялись линией на сочетание экономической эффективности и социальной справедливости, а для этого одновременно с развитием рыночных отношений широко использовалось государственное регулирование экономики. Одним из главных препятствий для решения данной задачи в Латинской Америке является сопротивление господствующих групп. Вывод экспертов ООН состоит в том, что необходимо соизмерять темпы либерализации экономики с реальной социальной обстановкой, используя и при реализации модели открытой экономики власть государства с целью обеспечения социальной справедливости. Кстати, экономисты новой либеральной волны, в частности, американский экономист Р.Каттнер, настаивают на необходимости сочетания рыночных механизмов и государственного регулирования экономики. Р.Каттнер в своей книге «Конец свободных рыночных отношений» проанализировал тенденции послевоенного развития стран Западной Европы, Латинской Америки, Японии и США. Данные анализа показали, что страны (в первую очередь Латинской Америки), формально последовавшие рецептам рыночного развития с упором на нерегулируемое свободное предпринимательство, очень быстро оказались в долговой яме астрономических размеров, в то время как государства, добившиеся наибольших экономических результатов, особенно Япония, достигли научно-технических и экономических высот благодаря совершенно иным факторам и концепциям развития, в основе которых лежали идеи четко сформулированных национальных интересов. Каттнер отмечает, что, несмотря на хроническую политическую нестабильность, авторитарные режимы, инфляцию и другие беды, в 50-е и 60-е годы в странах Латинской Америки (особенно с сильным государственным сектором) наблюдались в целом неплохие темпы экономического роста – порядка 5 процентов ежегодно. Например, ВНП Бразилии за период с 1965-го по 1980 год утроился, а ВНП, приходящийся на душу населения, удвоился. Однако под давлением американской администрации в 80-е годы эти страны перешли на систему свободных рыночных отношений, и это привело к тому, что с 1981-го по 1989 год ВНП на душу населения
снизился в: Мексике на 9,2%, Перу – на 24,7%, Боливии – на 26,6%, Аргентине – на 23,5% и в Венесуэле – на 24,9%. В период 1983–1989 годов из стран Латинской Америки было вывезено капиталов на сумму 150 миллиардов долларов, и только примерно одна четверть процентных выплат по долгам этих стран иностранным банкам была покрыта за счет новых займов. Возможности же стран Латинской Америки погашать долги, расширяя экспорт своей продукции, весьма ограничены, поскольку величина процентов, выплачиваемых по долгам к 1987 году примерно в два раза превышала ежегодный объем экспортной выручки в твердой валюте, в частности для Мексики соотношение этих показателей составляло 4:1, для Перу – 5:1, для Аргентины – 7:1. В подобном же положении, пишет Каттнер, оказалась Г наша, которая последовала рецептам «шоковой терапии» и теперь вынуждена целиком зависеть от активной политики Запада в отношении списания или погашения ее долгов. В связи с такими итогами Каттнер саркастически замечает, что концепция экономического развития, построенная по схеме: «Приватизируйтесь. Дерегулируйтесь. Продавайте реальные активы для оплаты долгов. Давайте гарантии иностранному капиталу, и вы будете вознаграждены!» – рассчитана на малоопытных и неискушенных политиков, в основном, развивающихся стран, не понимающих в достаточной степени реального – и более сложного – механизма вывода своих стран из экономического кризиса[95]. Таким образом, развитие современных стран находится в зависимости от реального соотношения рыночных механизмов и централизованного регулирования. Еще в большей степени, чем для экономики, это справедливо для социально-политического развития общества. Существует тесная связь стабильности общества и состояния его социальной структуры. Поэтому формирование среднего слоя весьма актуально в связи со стоящими задачами демократизации российского общества. Наличие в обществе среднего слоя и его значительный количественный вес стабилизируют социально-политическую обстановку, создают гарантии демократического пути развития общества. В связи с этим представляют интерес результаты, которые получил американский ученый Эдвард Н. Муллер[96]. Он исследовал
связь между неравенством в доходах и уровнем развития демократии на примере 23 стран мира, большинство из которых стали демократическими в 1945–1961 гг. Сравнительный анализ длительности существования демократии и распределения доходов позволил сделать следующий вывод. Демократические институты, существующие на протяжении относительно длительного времени, приводят к постепенному уменьшению неравенства в доходах, независимо от уровня экономического развития страны. Но если демократический режим введен в стране с ярко выраженным неравенством в распределении доходов, то это неравенство может привести к установлению авторитарного правления. Этот порочный круг может быть разорван, если демократия устанавливается в стране со средним или относительно низким уровнем неравенства или же способом для разрыва этого порочного круга является наличие сильной политической партии, стремящейся перераспределить доходы в первые годы существования демократии и оставшейся у власти достаточно долго, чтобы успеть существенно уменьшить неравенство в доходах населения. Приведем еще одно мнение в пользу социальной политики поддержки среднего слоя общества. Его автор – американский экономист и политолог Динак Гупта[97]. Он считает, что при выборе стратегии перераспределения доходов в пользу наиболее обеспеченных слоев населения, среднего класса или наименее обеспеченных граждан во внимание должен приниматься суммарный экономический и политический эффект такой политики. Автор не ставит под сомнение то обстоятельство, что в конечном счете политика аккумулирования средств в руках состоятельных групп населения, если она позволяет обеспечить высокие и стабильные темпы экономического роста, дает выигрыш всем членам общества. Однако Гупта считает нужным заметить, что и при таком благоприятном варианте развития нет гарантий, что те, кто остается на обочине экономического процветания, будут терпеливо ждать, пока общее благополучие коснется их. Наибольший позитивный эффект, полагает автор, дает политика, проводимая в интересах среднего класса. В этом случае некоторое возможное снижение роста доходов далеко перекрывается тем выигрышем для экономики, который дает сохранение политической стабильности, а в длительной перспективе достигаются самые высокие темпы экономического развития.
Какая же ситуация со средним классом в современном российском обществе? В оценке его количественных характеристик, структуры, социального статуса существуют различные подходы. Так, Е.Стариков в качестве индикатора отнесения к среднему классу использует уровень дохода, достаточный для того, чтобы иметь благоустроенное жилище, легковой автомобиль и полный набор домашней бытовой техники[98]. В России на 1989 год людей с таким доходом и выше было, по его мнению, 13,4% от общей численности населения, за вычетом сверхобеспеченных эта цифра была равна 13,15% населения России. По оценке Н.Наумовой средний класс составляет не более 20–30% населения[99]. А.Кустырев же считает, что средний класс составляет хребет нашего современного общества[100]. Такие различия в оценках свидетельствуют о неопределенности социальных характеристик и социального статуса среднего слоя в обществе, которое называлось социалистическим. Марксистская традиция абсолютизировала полярность классовой структуры общества, относя промежуточные социальные группы к маргинальным общностям. Для современного индустриального и тем более постиндустриального общества средние слои являются тем элементом социальной культуры, который тождественен отмиранию самой биполярной, дихотомичной классовой структуры. Для определения понятия «средний слой» или «средний класс» недостаточно использовать лишь медианное значение доходов, а следовательно, и уровня жизни. Методологически вернее было бы опираться на комплекс социально-экономических и социально-психологических характеристик: уровень материального благосостояния, обеспечивающий набор современных потребительских товаров и услуг; уровень образования и культуры, достаточный для выполнения высококвалифицированной работы или руководства предприятием, организацией; экономический тип поведения, ориентированный на достижение успеха в производственной и инвестиционной деятельности, приумножение капитала в условиях
рыночной экономики; ориентированность на комфортное психологическое существование, охранение своего внутреннего мира и мира семьи от влияния извне. Социально-политические установки определяются в целом демократическими устремлениями, законопослушностью и требованиями к государству защитить законы и права человека. Перечисленные характеристики не позволяют говорить о наличии в нашей стране среднего слоя, аналогичного среднему слою западных стран. Хотя имелись попытки дать описание среднего слоя и «социалистических» стран. Так, по мнению польского социолога Е.Щупатиньского, в «социалистическом» обществе средний слой сформировался в связи с комплексом социальных ролей «глобального руководителя-плановика». «Это все группы, которые не имеют решающего влияния на выработку плана и способа использования средств производства, но которые участвуют в обеспечении монополии на план и на средства мобилизации труда, а также монополии на обладание производственным аппаратом»[101]. Но подобные группы можно назвать лишь «псевдосредние слои» так как они жестко встроены в систему централизованного управления, обслуживают ее нужды, их квалификация в применении к рыночной экономике не сопоставима со средними слоями развитых стран мира. Таким образом, в нашем обществе предстоит воссоздать средние слои – как «традиционные», так и «новые». Социальная база их формирования достаточно обширна, о чем будет сказано ниже. Здесь же отметим, что «традиционные» средние слои для своего массового формирования нуждаются в государственной поддержке частного предпринимательства, создания соответствующей законодательной базы, системы налоговых льгот и субсидий, условий для инвестирования отечественного и иностранного капитала, формирования за счет государства социальной инфраструктуры, кадров для рыночной экономики. «Новые» средние слои будут активно формироваться в результате научно-технического и социального прогресса общества. Их рост обусловлен развитием науки и техники, образования, здравоохранения, культуры, увеличением числа занятых в сфере обслуживания: в финансах, коммуникациях, в компьютерном программировании и информационной технологии и т.д. Уже сейчас
эти группы широко представлены в обществе, но идентифицировать большинство из них со средними слоями сложно в силу низкого материального уровня. Таким образом, средний слой общества к настоящему времени является новым элементом социальной структуры. Его необходимо сформировать в ходе реформирования общества для его дальнейшего прогресса.
9.2. Проблемы, социальная база формирования среднего слоя в России В экономической системе, существовавшей в течение десятилетий в нашей стране, центральное место занимала иерархически организованная управленческая пирамида и примыкающие к ней работники системы распределения. Их уровень доходов был сопоставим с доходами средних слоев западных стран, но направленность их деятельности и социально-экономические характеристики отражали сущность экономической системы – системы тотального регулирования производства. Исторически «традиционные» или «старые» средние слои за семьдесят лет полностью были утрачены и их практически нужно воссоздать заново. «Новые» же средние слои весьма мало напоминают аналогичные слои разлитых стран мира. Во-первых, они не массовые, хотя под влиянием НТП происходило повышение общего и специального образования, сформировался достаточно многочисленный слой специалистов, в том числе по самым современным отраслям науки и техники, но подавляющее большинство работников по уровню доходов находилось ниже традиционных групп рабочего класса, в том числе его неквалифицированной части. В условиях нашей страны происходило неравномерное научно-техническое развитие по отраслям производства. Наиболее квалифицированные кадры специалистов и рабочих – потенциал средних слоев – сосредоточивались в науке и отраслях ВПК, которые со свертыванием бюджетного финансирования оказались на грани банкротства. Усилился отток квалифицированных кадров, в том числе и за рубеж. Наряду с внешней существует и внутренняя эмиграция, когда интеллигент уходит в другие сферы – коммерцию, политику и т.д. Происходит реальное уменьшение в обществе интеллигенции, остающейся верной своей профессиональной подготовке.
Во-вторых, практически отсутствовали в обществе (или их было мало) те представители средних слоев, которые порождены в развитых странах свободными рыночными отношениями: специалисты по маркетингу, по банковскому делу, управленцы с рыночной ориентацией и т.д. Как видим, и «старые», и «новые» средние слои существуют в российском обществе только в потенции. Станут ли они реальным субъектом экономической и социальной жизни, зависит от направления дальнейших преобразований. Для формирования традиционных средних слоев и выполнения ими своего назначения в рыночной экономике решающее значение будет иметь возникновение частных собственников – предпринимателей – хозяев небольших предприятий, фирм, брокерских контор, магазинов и т.д. Это совершенно новый для нашей экономики тип хозяйствующего субъекта, способный соединять, комбинировать факторы производства, новые методы управления. Перспективы формирования традиционных средних слоев связаны с преобразованием по меньшей мере двух крупных социальных групп бывшего советского общества. Первая группа (назовем ее условно «элита»), которая может быть выделена по уровню доходов, сопоставимых с доходами среднего слоя в развитых странах, включала в себя партийно-бюрократический аппарат, руководителей отраслей и крупных предприятий, верхний слой управленческого персонала, незначительную часть ученых и технических специалистов, часть гуманитарной интеллигенции, а также тонкий слой рабочего класса, совмещавшего производительный труд с выполнением партийно-административных функций. Сюда же можно отнести и определенную часть работников снабжения и торговли. Этот слой у нас составлял до 15% населения. Он силен корпоративными связями, но достаточно слаб профессионально. К тому же закрытость многих элементов этого слоя ограничивала его мобильность и способность впитывать социально активных членов общества. «Элита» длительное время препятствовала преобразованию экономических отношений на новых, рыночных, принципах, предпочитая монопольно распоряжаться своей властью и общественным продуктом, а теперь она использует свое влияние, чтобы устранить конкурентов в борьбе за собственность при переходе к рынку. Объективные процессы, проходящие в экономике, кардинально поменяли социальные ориентиры в развитии этой группы. Многие ее члены активно включились в рыночные отношения, широко
используя свои связи в распадающейся командной системе, стремясь и в бизнесе занять ключевые посты. Из бывшей «элиты» рекрутировалась основная часть крупных, средних и мелких бизнесменов. Характерная черта мелкого и среднего бизнеса в нашей стране состоит в том, что он представляет собой порождение экономической системы нерыночного типа, несет на себе черты «черных» и «серых» экономик. Вследствие этого приоритетное развитие получают непроизводительная, торгово-ростовщическая деятельность, ориентация на сверхприбыль не путем ускорения оборота капитала, а наоборот, путем создания дефицита товаров. Стремление сохранить монополию в торговле и производстве сочетается с активным взаимодействием с властными структурами. Для него естественно отсутствие рыночной культуры и деловой этики, попрание нравственности, оскорбляющее все общество. Политический, духовный и культурный опыт народа несет в новых экономических условиях конфликтный потенциал, заключенный в столкновении ментальных и культурных характеристик с реальностью рыночной экономики в российских условиях. Но для эффективного развития экономики, а на первых порах и для выхода из кризиса, нужно как можно скорее сформировать собственников, несущих ответственность за результаты своей деятельности. И то, что часть «элиты» может стать полноценным субъектом рынка, не должно тормозить процесс обретения собственностью хозяина. Попытки препятствовать этому результата не дают. Свобода в экономической сфере несовместима с формированием среднего слоя по политическим принципам. Определенную сбалансированность и демократизм традиционным средним слоям может придать пополнение их из социальной группы, которую можно рассматривать как второй источник формирования среднего слоя общества – это многочисленные профессионально подготовленные работники, составляющие массовые отряды интеллигенции, квалифицированные слои рабочего класса, фермеры. Назовем их условно «муравьи». Их неудовлетворенность своим социально-экономическим положением и уровнем потребления как в сравнении с «элитой» внутри страны, так и с аналогичными себе группами на Западе, является мощной социальной базой преобразования экономики на рыночных принципах и борьбы за демократизацию общества. Первым каналом, который позволил включиться в рыночные отношения этой социальной группе, стало развитие
альтернативного сектора экономики – кооперативных, совместных предприятий, фермерских хозяйств и т.д. Появившиеся здесь предприниматели составляли первую волну в формируемом среднем слое. Их число могло быть весьма значительно, но условия, в которых протекала их деятельность (жесткая налоговая политика, противоречащие друг другу нормативные акты, непоследовательность курса правительства), враждебность населения умело, кстати, подогреваемая «элитой», таковы, что в этой среде немало предпринимателей с криминальной ориентацией, некоторая часть их коррумпирована. Подавляющее число квалифицированных и частных работников не хотело включаться в предпринимательство в таких условиях, хотя и считало, что развитие предпринимательства и свобода экономического поведения могут вывести страну из экономического кризиса. Между тем, преимущества негосударственных предприятий, даже с учетом жесткого давления со стороны административно-командной системы, оказались столь впечатляющими, что население сразу же оценило позитивные стороны работы на них. Исследование «Наши ценности сегодня» показало, что при минимальной занятости на этих предприятиях в 1990 г. (1,7%), хотели бы иметь их в качестве основного места работы 31,7%, а для дополнительного заработка 24,5%. Соответственно уже тогда снизилась привлекательность труда на государственных предприятиях – олив 1990 г. здесь было занято 50,6% опрошенных, то хотели бы здесь работать только 45,7%. Кстати, даже при очень слабом развитии альтернативного сектора в сельском хозяйстве, многих привлекает труд самостоятельного крестьянина или фермера, а также в личном подсобном хозяйстве как основном месте работы. Более 12% от числа опрошенных хотели бы быть фермерами или постоянно заниматься личным подсобным хозяйством. Первая волна предпринимателей, состоящая во многом из людей авантюрного типа, подготовила общество к восприятию частного предпринимательства, коммерческих банков, бирж и других рыночных институтов. Вторая волна включила менее «рискованных» людей. Плацдарм уже был подготовлен. Теперь активно подключались и представители бывшей номенклатуры, люди из разрушенной системы управления, других групп и слоев общества. Все большее число людей начинает пробовать себя в малом и среднем бизнесе, хотя стартовым капиталом располагают очень немногие, только те, кто занимается торгово-посреднической деятельностью или сумел на базе государственных предприятий создать свое частное
производство. Кстати, эта разновидность номенклатурной приватизации наиболее продуктивна. С поддержкой (и не без корысти) со стороны министерских структур и руководителей предприятий были созданы многочисленные малые предприятия, которые, пользуясь преимуществами нахождения в системе государственного обеспечения и дешевой рабочей силой, организовали производство продукции, реализуемой по свободным рыночным ценам, и за первые годы своей деятельности создали хороший капитал. Думается, что наступает время для формирования третьей волны предпринимателей, которая все больше будет распространяться на сферу обслуживания. Программа приватизации и разгосударствления в том или другом варианте создает для этого определенные предпосылки, но самое главное состоит в ток, что в обществе начала складываться определенная психологическая готовность к участию в рыночном хозяйстве. Бизнесмен становится нормативной фигурой общества. Массовый характер приобрела переподготовка работников для профессионального участия в частном бизнесе. Несмотря на возможные задержки в развитии частного предпринимательства из-за действия органов управления, процесс уже набрал инерцию. В итоге приватизации и разгосударствления должен сложиться многочисленный слой граждан, владеющих собственностью и обладающий определенными ценностными ориентациями. Эти ориентации в области потребительского поведения соответствуют определенному стандарту жизненных благ, современных и технически оснащенных, в области производственного поведения средние слои склонны к накоплению и инвестициям с целью получения дохода. Кроме этого в своей непосредственной производственной деятельности они ценят возможность профессиональной реализации и относительной самостоятельности. В сущности, только с превращением этого слоя собственников в численно значительную часть населения разгосударствление и приватизация будут социально и экономически эффективны. И здесь требуется определенная, недвусмысленная политика поддержки государством мелкого и среднего бизнеса, создания ему режима выживаемости и развития в окружении многочисленных гигантов-монополистов. Между тем, существует мнение, выраженное, например, О.Виханским[102], что создание рынка в нашей стране должно идти собственным путем и должно быть столько капиталистов, сколько
потребует рынок. Но рынок может быть монополизирован фирмами-гигантами, созданными мафиозными и номенклатурными структурами, с нищим населением, но может быть и конкурентным со множеством мелких и средних форм, защищенных антимонопольным законодательством. В стране идет незримая борьба социальных интересов «элиты» и «муравьев»: за собственность, за право выхода на рынок, за ключевые посты в экономике, за долю в прибавочном продукте. Только внутренняя «турбулентность» экономики, определенная непредсказуемость в динамике рыночных структур, связанная с бумом инновационного предпринимательства, может стать определенным гарантом высоких темпов развития НТП в будущем. Вместе с тем нельзя отрицать экономическую эффективность и крупной частной собственности. Сейчас она фактически легализована, в том числе в виде совместных предприятий. В рамках крупных частных предприятий складывается устойчивая долгосрочная мотивация на развитие производства и расширение инвестиций, а это создает мощный стимул для динамического развития других форм собственности, их конкурентной активности. Предпринимаемые некоторыми политиками попытки столкнуть тех, кто стал предпринимателем, используя свои номенклатурные связи, и тех, кто начал с нуля, неэффективны в экономическом отношении и опасны в политическом. Рынок не может возникнуть по определенной схеме, это во многом неуправляемый процесс, и делить предпринимателей на «чистых» и «нечистых» – в духе старого, конфронтационного, классового подхода непродуктивно. Как бы это не казалось несправедливым, предпринимателями не могут стать все граждане, ими станут только наиболее активные, обладающие соответствующими качествами. Сейчас же, на начальном переходном этапе, среди них, естественно, велика доля «нецивилизованных» бизнесменов. Да и может ли быть иначе, если нет устоявшейся правовой базы, отвечающей принципам рыночной экономики, институты и инфраструктура рыночной экономики в стадии хаотического образования, время от времени происходит то в одной, то в другой сфере возврат к принципам «принудительно направляемой» экономики. Общество только выходит из состояния, которое точно оценил А.С.Изгоев в 1918 г. «В странах, где не обеспечен правопорядок, нет правосудия и отсутствует общественная безопасность, замирает предприимчивость, происходит непомерное вздорожание всех продуктов, силе и
насилию противопоставляется обман, лицемерие, стремление уйти в свою раковину, скрыть от всех свое состояние»[103]. Как бы то ни было, в России активно идет процесс накопления частного капитала, формируется слой собственников. На этом фоне весьма драматично положение «новых» средних слоев. Их потенциальная база – специалисты с высшим и средним образованием – весьма обширна. С введением рыночных отношений гарантированный социальный статус специалистов был поколеблен. Некоторые специалисты смогли найти себя в бизнесе, малом и среднем предпринимательстве, но большинство по-прежнему сохраняют приверженность своему профессиональному занятию, постоянно ощущая на себе снижение уровня жизни. За годы перестройки они были оттеснены на худшие позиции по сравнению с предпринимателями, ценность интеллектуального труда относительно понизилась, а в сравнении с уровнем жизни соответствующих групп в западных странах она предельно мала. Наряду с другими факторами это обусловило широкую миграцию специалистов за рубеж. Сложившаяся ситуация отражает объективный ход реформы в нашей стране. Если в Венгрии и Китае экономические реформы предшествовали процессу демократизации, то наш опыт показал, что децентрализация и ослабление роли государства могут предшествовать экономическим реформам. Однако в этом случае реформа экономики проводится в неблагоприятных условиях: сужается до минимума возможность маневра, у общества очень мал запас прочности. Для отдельных групп населения, зависящих от государства то ли как работодателя, то ли как социального защитника, то ли как спонсора в учебе и т.д., «минимизация» государства оборачивается ухудшением материальных условий жизни. Именно новые средние слои, а так же студенты, т.е. потенциальные средние слои, вытеснены на периферию государственных интересов. Как же пойдет развитие новых средних слоев? Здесь трудно питать какие-то иллюзии. Объективное положение в экономике, по-видимому, еще долго будет таково, что государство в должной мере не сможет поддерживать те группы в составе средних слоев, которые заняты в культуре, искусстве, просвещении. Поддержка же частного бизнеса оборачивается коммерциализацией культуры и определенной ангажированностью ее деятелей. В ситуации
зависимости от денежного мешка или спонсоров неминуемо произойдет нивелировка творческих людей, усреднение и самой культуры под давлением человека-массы, как его называл Х.Ортега-и-Гассет. Несколько иное положение тех новых средних слоев, которые представлены техническими специалистами, экономистами и т.п. работниками, развитие которых лежит в русле научно-технического прогресса и становления рыночных отношений. Уже сейчас они все более успешно включаются в новые экономические отношения, предпочитая совместные и частные предприятия. Определенные преимущества эти специалисты получают при акционировании предприятий. Но вместе с тем остается нерешенной проблема сотен тысяч специалистов, занятых в отраслях ВПК, в фундаментальной и отраслевой науке. Именно здесь сосредоточен наиболее продвинутый отряд технической интеллигенции, способный решать задачи на мировом уровне. Сейчас же распадаются целые творческие коллективы, деквалифицируются специалисты, многие тысячи выезжают за рубеж. Остановить этот распад можно было бы с приватизацией части предприятий ВПК, отраслевых институтов, созданием на базе крупных научных организаций небольших форм с правом частной собственности, в том числе акционерной; нерешенность этих вопросов просто выталкивает высококвалифицированных специалистов из научных, проектных и т.п. учреждений. Здесь, видимо, заключена одна из стратегических ошибок проводимой политики разгосударствления и приватизации: осталась инертна, не включена в преобразования, значительная часть наиболее высококвалифицированных групп населения, поддерживающих рынок, но оставленных на обочине проводимой реорганизации. Если бы эта проблема была решена, расширилась бы социальная база рыночных преобразований, во многих аспектах был бы сохранен научный потенциал общества. Для превращения новых средних слоев в ядро среднего класса необходимо было бы расширить область разгосударствления и приватизации, увеличить финансирование фундаментальной науки и образования, принять закон об интеллектуальной собственности. Иначе переходный период к рыночной экономике ознаменуется деквалификацией значительной части новых средних слоев и их выездом за границу. В современных обществах с рыночной экономикой существует принципиальная открытость среднего слоя для проникновения представителей из других групп общества. Каналами его
пополнения становятся образование и способность к напряженному труду, творческие задатки в широком спектре деятельности – от предпринимательства до художественного творчества. Стремление попасть в этот слой, удержаться в нем самому и найти в нем место своим детям является сильным стимулом для высокоэффективной работы. Характерно, что и у нас первые опыты развития альтернативного сектора экономики показали, что здесь могут проявить себя и прежде люмпенизированные группы населения, которые в условиях плановой экономики с жесткой регламентацией всех сфер деятельности не смогли реализовать себя позитивно, уходили в криминогенную среду, совершали экономические, с точки зрения существовавшего тогда законодательства, и иные преступления. Развитие альтернативной экономики дало таким людям жизненный шанс. Некоторыми он был использован. Таким образом, в стране только начинается формирование, подчас очень драматичное, среднего слоя, подобного среднему слою развитых стран, где уровень материального благополучия зиждется на высокой эффективности труда и профессионализме, способности быстро адаптироваться к требованиям НТР и рыночным отношениям. Вместе с тем, потенциально социальная база для формирования среднего слоя в наших условиях достаточно широка. Прежде всего за счет довольно большого числа специалистов с высшим и средним специальным образованием, занятых в народном хозяйстве. Сейчас они составляют около 28% работающих[104]. Большинство из них по своему социальному статусу низведены до роли наемного работника с предельно низким уровнем доходов, зачастую ниже прожиточного минимума. Не случайно, что именно они, по данным социологических опросов, поддерживали идеи рыночного пути развития[105], так как видели в переходе к рыночной экономике возможность улучшить свое материальное положение, реализовать творческий и интеллектуальный потенциал. К потенциальной базе средних слоев может быть отнесена и незначительная по численности, но перспективная группа рабочих высокой квалификации, прежде всего связанных с новыми технологиями. Чтобы оценить возможности роста среднего слоя за счет представителей рабочего класса, нужно учесть два момента.
Во-первых, чрезвычайно низкие темпы структурной перестройки народного хозяйства и внедрения НТР обусловливают отсталую структуру занятости в отраслях материального производства. Монополизм государственной собственности обеспечил низкую эффективность инвестиционного процесса, незначительную квалификационную мобильность рабочих. До сих пор в народном хозяйстве более 50 млн. человек (38% работающих) заняты ручным трудом. Более того, существует необходимость для приглашения на неквалифицированные места рабочих из-за рубежа. Отсталая структура производства обусловливает и низкую квалификацию рабочих кадров. Сейчас отставание от развитых стран приблизилось к критической величине. По некоторым данным в середине 80-х годов оно составило 15–20 лет, увеличившись по сравнению с серединой 60-х годов почти вдвое.[106] Пополнение среднего слоя а счет представителей рабочего класса будет происходить по мере формирования современного спектра отраслей с новыми технологиями и модернизации действующих на базе последних достижений НТР. Второй аспект связан с необходимостью преодоления уравнительных подходов к оплате труда разной сложности, с адекватным вознаграждением за квалифицированный труд. Проведение экономической реформы и переход к рыночной экономике делают крайне нежелательным сохранение уравнительных подходов в оплате труда разной сложности, так как в этом случае ущемляются работники, которые имеют высокий профессионализм и мастерство. Но преодолеть уравниловку весьма сложно не только в связи с сопротивлением неквалифицированных слоев, но и потому, что уровень оплаты определяется неэффективным развитием всей экономики, что ведет к относительному обнищанию большинства социальных групп и слоев. Так в советской экономике сложилась тенденция снижения доли личного потребления в валовом национальном продукте. Если в 1951–1960 гг. она составляла 56,5%, то в 1983–1988 гг. только 54,5%, тогда как в развитых странах происходило повышение социальной ориентации экономического роста. Например, в США доля ресурсов, поступающих на цели подъема благосостояния, регулярно увеличивалась – с 58,2% валового национального продукта в 1951–1960 гг. до 65,2% в 1983–1988 гг.[107].
Если же учесть, что валовый национальный продукт СССР был значительно ниже, чем в США (по оценкам специалистов он составлял от менее 20% до 35–40%)[108]. то становится очевидной и объяснимой проводимая политика уравнительности в оплате труда разной степени сложности и эффективности. Создался своего рода порочный круг, когда отсталая структура занятости осложняется существующей уравнительной системой распределения, консервирующей в свою очередь сложившееся нерациональное разделение труда. В условиях кризиса положение усугубилось. Особенно пострадали отрасли ВПК. Здесь широко распространилась практика выплаты минимума зарплаты всем рабочим независимо от занятости и квалификации. Создается впечатление, что в условиях кризиса уравниловка завоевала еще более прочные позиции. Практическое отсутствие банкротств предприятий, массовых увольнений при сокращении производства и скрытая безработица, ставшая повсеместным явлением, закрепляют в массовом сознании представление о патерналистском отношении государства и наемных рабочих, препятствуют формированию конкурентного типа поведения в среде работающих. Между тем в обществе далеко неоднозначно отношение к уравнительности в распределении. Во многих публицистических и научных работах сильно преувеличено стремление людей к равенству в доходах, их желание «быть как все», их якобы завистливое отношение к тем, кто выделяется или много зарабатывает. В исследовании «Наши ценности сегодня» было предложено суждение: «между людьми не должно быть большой разницы в доходах, даже если это приведет к тому, что некоторые будут работать хуже, чем могли бы». С ним не согласились почти 60% опрошенных. Еще больше – 66% считают, что для того, чтобы люди лучше работали, нужна большая разница в оплате их труда. Вместе с тем в 1990 г. в условиях почти стопроцентного огосударствления экономики, когда государство являлось единственным собственником и работодателем в лице предприятий, колхозов, совхозов и других организаций, большинство считало, что правительство должно
обеспечить работой каждого, кто в ней нуждается (88%), и каждому дать гарантированный доход (69%). Можно было бы усмотреть в этих данных склонность к иждивенчеству, отсутствие самостоятельности и инициативы, если бы не отмеченное выше обстоятельство – сохранявшееся почти полное огосударствление экономики в 1990 г. Не следует приуменьшать и достаточно развитое в народе чувство здравого смысла, который не позволяет пускаться в развитие альтернативного сектора без определенного законодательного и экономического обеспечения его деятельности. Тем более, что сам альтернативный сектор находился в зачаточном состоянии. Наиболее острая проблема в переходе к современной структуре производства с высококвалифицированными кадрами состоит в том, чтобы преодолеть органическую невосприимчивость предприятий-монополистов к внедрению достижений НТР. Пока неясно, какой нужен рыночный механизм, чтобы создать для предприятий сильнодействующие стимулы по внедрению новых технологий, как будет поколеблен всеохватывающий монополизм производителя. Представляется, что только развитие экономической реформы в сторону рынка служит гарантией того, что в нашей стране, как и развитых странах мира, будет проходить под влиянием НТР перемещение работников из одних отраслей в другие, от менее к более квалифицированному труду. А значит, будет более интенсивно формироваться средний слой из числа высококвалифицированных рабочих. Словом, средний слой, соответствующий современной рыночной экономике, может быть создан только при смене системы экономических отношений – при переходе от административно-командной к экономике, управляемой рыночными механизмами с развитой конкуренцией и свободным предпринимательством, с плюрализмом форм собственности, – к экономике смешанного типа, развиваемой на базе НТР. Но вместе с тем, сам этот переход может быть осуществлен, если в обществе уже реально существует достаточно представительный по численности социальный слой, заинтересованный в таком подходе. Сейчас этот слой имеется только в потенции, его реальное существование и рост во многом зависят от социальной политики и создания правовых условий, которые активно способствуют формированию рыночной экономики, а также от организованности общественных движений за защиту экономической реформы. В этом состоит драматизм сложившейся ситуации.
9.3. Рыночная экономика и средний слой Потенциально широкая база в формировании среднего слоя в нашей стране может быть реально использована при выработке эффективной социальной политики по разгосударствлению экономики. Ведь дело не просто в том, чтобы повысить оплату труда, подняв тем самым уровень жизни квалифицированной части общества, а в том, чтобы создать такой механизм мотивации труда, который сломал бы уравнительность в системе распределения доходов, поставил ее в зависимость от трудового вклада. Наш опыт уже вполне доказал, что огосударствление всех форм собственности и эффективная экономика – несовместимые понятия в условиях НТР. Только с развитием рыночных механизмов может быть включен в экономике «мотор» личного интереса, может эффективно развиваться народное хозяйство страны. В чем же состоят преимущества рыночной экономики? Среди других мнений выделим мнение американского экономиста, лауреата Нобелевской премии Джеймса М.Бьюкенена. Он считает, что рыночная экономика сравнительно более эффективна, чем плановая, поскольку она: направляет мотивы экономических субъектов в русло производства материальных ценностей; полностью использует локализованную информацию, доступную субъектам только в условиях отделенности и децентрализации; представляет максимальный простор творческим и изобретательским способностям всех субъектов, решивших стать потенциальными предпринимателями. Экономика, организованная по рыночному принципу, практически сводит до минимума число экономических решений, принимаемых политическим путем, то есть через орган, действующий от лица общества, она сводит до минимума размеры и роль государственной бюрократии[109]. Эти неоспоримые преимущества рыночной экономики могут проявить себя в народном хозяйстве нашей страны в том случае, если вся система экономических отношений будет преобразована так, что в ее центре будет стоять свободный экономический субъект, независимый от государства и выступающий на рынке владельцем созданного им продукта. В этих условиях первостепенное значение приобретает вопрос – как будут формироваться хозяйственные субъекты, выходящие на рынок. Лучшие экономические результаты, как показывает мировой
опыт, получают те из них, которые несут полную материальную ответственность за используемые ресурсы, являются их собственниками. Они и служат социальной базой гражданского общества, заинтересованы в его стабильности и поступательном движении. Становление гражданского общества невозможно без экономического фундамента прав и свобод – частной собственности. В печати широко обсуждаются пути разгосударствления собственности, приводятся аргументы «за» и «против» продажи собственности и безвозмездной передачи коллективам и всем гражданам[110]. Возможны два пути формирования субъекта рыночной экономики – путем ее рекапитализации, когда во главе производства стоит частный предприниматель, второй путь – превращение трудовых коллективов в свободные самоуправляющиеся сообщества владельцев, управляющих средствами производства и распоряжающихся продуктами своего труда. В нашей стране, где широко распространены антикапиталистические ориентации («пусть нас эксплуатирует государство, но не частник»), второй путь социально-политически более реален, хотя и не может дать столь резкого подъема эффективности производства, как передача всей собственности в частные руки. В связи с этим нужно учесть негативный опыт бывшей Югославии, где самоуправленческие коллективы были слабо заинтересованы в рациональном соотношении личных доходов и накопления, что раскручивало инфляционную спираль зарплата – цены и при слабом контроле над инфляцией подрывало рыночные механизмы регулирования экономики, способствовало развалу единого рынка страны и его регионализации[111]. В переходный период вполне реальна и другая опасность – передача собственности под прикрытием идеологических ширм государственно-капиталистическим концернам, номенклатурным работникам и сросшимися с ними мафиози. Возникает серьезная перспектива таких квазипреобразований экономических отношений, когда ключевые посты в экономике займет новая партийно-бюрократическая буржуазия при нищем населении. При этом отношения собственности принципиально не меняются, по-прежнему масса производителей будет отчуждена от собственности, изменится
только форма правления: от отраслевого с министерством во главе – к созданию концернов, консорциумов и т.п. При этом сохраняется монополия со всеми вытекающими отсюда последствиями: теми же пороками планирования, инвестирования, монопольным положением на рынке, отсутствием заинтересованности рабочих, которые не могут влиять на развитие предприятий, отчуждены от управления. Формирование акционерных форм на базе старых монополизированных структур не вносит кардинальных изменений в хозяйственную жизнь, не становится условием создания рыночных отношений. Все более актуальное значение приобретает и вопрос о признании личной частной собственности, в том числе крупной. Сейчас она фактически уже легализована в лице ряда совместны, а также некоторых российских предприятий. Удивительно, но факт, что в обществе достаточно безболезненно проходит процесс реабилитации крупной частной собственности, миллионер и даже миллиардер в глазах населения, если он занимается производством, имеет положительную оценку. Стоит прислушаться к мнению некоторых экономистов о том, что было бы рациональнее использовать частный сектор, в том числе в виде крупных предприятий, для формирования конкуренции в производстве и для создания долгосрочной мотивации в рамках других форм собственности[112]. Известно, что при коллективных формах собственности превалирует потребительская ориентация в распределении прибыли в ущерб накоплению. Крупная частная собственность, напротив, ориентируется на перспективное развитие производства и в этом смысле способна формировать предпосылки для конкуренции и подорвать монополизм отдельных предприятий, существующий сейчас как в государственном, так и в кооперативном секторе. Словом, процесс разгосударствления и приватизации собственности многовариантен и поэтому особое значение имеет современный переходный период. Этот переход многое определит в дальнейшем развитии страны. Если он удастся и общество пойдет по рыночному пути развития, то смешанная экономика составит базис гражданского общества. В исторических условиях нашей страны, очевидно, приоритет будет отдан коллективным формам собственности при одновременном развитии мелкой частной
собственности и, возможно, крупной. Хочется надеяться, что переходный период даст всем шанс вступить в рынок потенциальными собственниками. Разгосударствление, по оценкам специалистов, должно охватить до 70% всей собственности[113]. Необходимость перехода к рыночным отношениям, к сильной экономической мотивации труда достаточно определенно понимается в обществе. Для того, чтобы реально использовать перемены в ценностных ориентациях людей, нужно преобразовать систему экономических отношений, сместив центр с иерархической подчиненности в сторону отношений собственности. По сути, предстоит преодолеть структуру азиатского способа производства с монопольным положением государства, всевластием бюрократии, тотальным отчуждением от власти и собственности трудящихся и воссоздать отношения собственности. В идеале это переход к экономике смешанного типа с социально регулируемым рынком. Именно такие условия благоприятны для проявления экономической активности среднего слоя общества – наиболее образованных, деловых и предприимчивых работников.
9.4. В ожидании рынка Переход от планово-административного регулирования экономики к рыночной модели в условиях нашей страны осложняется длительным господством государственной собственности, что породило экономический патернализм, психологию социального иждивенчества. И все-таки за последние годы заметны сдвиги в общественном сознании. Весьма актуально в связи с этим оценить приемлемость для общества введения рыночных отношений. Тезис о неготовности нашего человека к рынку большинству кажется столь очевидным, что его не нисходят даже аргументировать. Превалирует мнение, что самым серьезным препятствием для развития рынка являются сложившиеся представления о нем и моральные ценности самих людей, а не институциональная и политическая система, в которой они живут. Между тем, сравнительное исследование, проведенное советскими и американскими социологами[114] по вопросам отношения
к изменениям цен и к неравенству доходов, к значимости материальных стимулов, предубеждений против использования денег в определенных ситуациях, зависти и враждебности к бизнесменам и богатым, понимания того, как работает рынок, что такое спекуляция и т.д., показало, что советские люди относятся спокойнее к неравенству в доходах, чем американцы, они не менее, а более американцев испытывают тягу к материальному благополучию. Сходная реакция у наших и американских респондентов и на возможное повышение цен на рынке. В то же время исследование выявило, что наши люди испытывают меньшие симпатии к бизнесу, и что у них больше обеспокоенности возможной будущей национализацией частных предприятий государством. Однако эти различия не столь значительны, чтобы их можно было рассматривать в качестве неодолимых препятствий и к тому же они – свидетельство здоровой реакции людей на правовой нигилизм периода первоначального накопления капитала в нашей стране. Это исследование, да и наш первый опыт, показали, что поведению на рынке не нужно учить: это то, что дано нам самой природой. Естественно, что при переходе к рынку в наших условиях нужно учитывать объективное состояние социальной структуры общества – наличие большого числа лиц пенсионного возраста, нетрудоспособных, людей с низкой квалификацией, неспособных по возрасту и образовательному уровню к переподготовке и тому подобных категорий. Для них должна быть создана социальная защита. Наиболее же активная часть общества может реализовать и повысить в условиях рыночной экономики свой профессиональный и культурный уровень, достичь высокого качества жизни. Весьма показательно, что наиболее молодая, образованная и высококвалифицированная часть трудящихся ориентируется на рыночные отношения, на развитие частного предпринимательства и института частной собственности, на приоритет качественного и высококвалифицированного труда в сочетании с действенным механизмом его защиты и материальной заинтересованности в конечных результатах. Эта группа трудящихся придерживается наиболее радикального подхода к существовавшему экономическому механизму и своему месту в системе экономических отношений. Они ориентированы на достижение экономического успеха,
а для него готовы даже к выезду за границу[115]. Знаменательно, что около 60% эмигрантов из России имеют специальное образование (высшее и среднее). Эти наиболее динамичные социальные группы стремятся к достижению высокого уровня жизни своим собственным трудом. Для них большим разочарованием за годы перестройки явилось топтание на месте в вопросах законодательного закрепления плюрализма форм собственности и реальных шагов по разгосударствлению экономики, непоследовательность в развитии предпринимательской деятельности. Отсутствие стабильности правового обеспечения и государственных гарантий в отношении частной собственности, политика органов налогообложения, административное противодействие на местах развитию предпринимательства – все это составляет непроходимую полосу препятствий для большей части более-менее подготовленных к этой деятельности работников. Для тех, кто все же пускается в это рискованное дело, сиюминутная выгода становится целью деятельности, так как для долгосрочной перспективы в обществе не созданы необходимые условия и гарантии. Сейчас мы можем только гипотетически оценить, каково будет отношение населения к рынку, так как опыта реального включения в рыночные отношения у нас нет. Монополизированный государственными неэффективными предприятиями рынок и отдаленно не напоминает рынок с независимыми свободными производителями. Наш «рынок» не только не дает свободу производителю и свободу выбора товара потребителю, но зачастую не дает и самого товара. И вот в этих сюрреалистических условиях показательно отношение населения к рыночной экономике. Характерны в связи с этим результаты всероссийского исследования «Наши ценности сегодня», в котором определялось мнение о радикальной экономической реформе, отношение к формам собственности, о характерной для рыночной экономики дифференциации доходов в зависимости от квалификации и отношения к труду, наконец, о свободе экономического поведения. Эти вопросы, относящиеся к разным сторонам экономических преобразований, позволяют оценить психологическую настроенность на включение в новую систему экономических отношений.
В целом отношение населения к рыночной экономике более благосклонное, чем к плановой, плоды функционирования которой всем очевидны. На вопрос «Что бы вы выбрали для себя: рыночную экономику, где оплата труда определяется только спросом и предложением на рабочую силу и люди могут получить работу только тогда, когда их квалификация соответствует работе, или плановую экономику, при которой оплата труда работника устанавливается правительством и люди всегда могут получить работу?» за рыночную экономику высказались 48,7% респондентов, плановую же поддерживают только 20,4%. Существенно влияет на выбор рыночной формы ведения хозяйства уровень образования – с его повышением число сторонников рынка растет (от 27,8% с незаконченным средним образованием до 70,2% с высшим), соответственно падает число приверженцев планового хозяйства. Характерно, что более 50% по всем социальным группам (рабочие, производственная и непроизводственная интеллигенция, руководители, военные, домохозяйки, учащиеся) выбирают рынок, за исключением пенсионеров и крестьян, среди которых более 40% пока не определили свое отношение. Но и за плановую экономику высказались только 17,8% крестьян и 27,2% пенсионеров. В оценке форм собственности вопрос был сформулирован так, что предлагал выбрать либо существующую сейчас ситуацию с превалированием государственной формы собственности и стабильным уровнем цен или такую форму, которая характерна для смешанной экономики, где действуют рыночные отношения покупателя и продавца. В анкете спрашивалось: «Что бы вы выбрали для себя: такую форму собственности, при которой много потребительских товаров высокого качества, но не все имеют одинаковую возможность их купить из-за цен, или такую форму собственности, когда цена на товары низкая и все могут приобрести их, но товары не всегда есть?» За форму собственности, характерную для рыночной экономики, высказались 49,4% опрошенных, за существующую сейчас – 28,0%; но 19,2% не определили своего отношения. В оценке необходимости радикальной экономической реформы, которая приведет к свободной рыночной экономике, но сначала вызовет безработицу, инфляцию, рост цен и только потом экономическое процветание и изобилие потребительских товаров, около 46,9% – за проведение реформы и лишь 11,8% считают, что ее проводить не надо. При этом 34% опрошенных свое мнение не определили.
В контексте рассматриваемой проблемы формирования среднего слоя советского общества определенный интерес вызывает группа опрошенных, которая позитивно оценивает шесть характеристик рыночной экономики, приемля даже такие ее признаки, как: неравная доступность из-за высокой цены потребительских товаров для всех групп населения; возможная незанятость в производстве из-за низкой квалификации; большая разница в оплате труда; массовая безработица и высокие цены на первых этапах вхождения в рынок. Эта группа, положительно относящаяся к преобразованию экономики на новых, рыночных началах, достаточно велика, она составляет 12% от всех опрошенных. Сравнение социальных характеристик группы «рыночников» со всем массивом опрошенных позволяет составить социальный портрет этой группы. Для нее характерен более высокий уровень общего и специального образования – доля лиц с высшим и неполным высшим образованием на 8% выше, чем в целом по всем опрошенным. Довольно высоки заработки на основной работе – с ростом зарплаты число сторонников рынка возрастает по сравнению с основным массивом, а доля имеющих дополнительный заработок в этой группе в 2 раза выше, чем среди всех опрошенных. «Рыночники» трудятся в основном на государственных предприятиях или в бюджетных организациях, их доля меньше в колхозах и совхозах, нет их среди работников общественных организаций. Альтернативный сектор слабо представлен в выборке и нуждается в дополнительном исследовании. Сторонники рыночной экономики – люди сравнительно молодые – до 50 лет. Старше этого возраста доля «рыночников» снижается по сравнению с численностью этой возрастной группы во всем массиве. Среди отраслей народного хозяйства в числе сторонников рынка доминируют сферы материального производства, студенты и учащиеся учебных заведений, а работники здравоохранения, народного образования и культуры представлены в два раза меньше, чем их доля среди всех опрошенных. Наконец, по принадлежности к социальным группам в составе «рыночников» выделяются рабочие – их на 15,1% больше, чем доля рабочих среди всех опрошенных, учащихся больше почти в 4 раза, пропорциональное число производственной интеллигенции и руководителей. А вот среди крестьян, непроизводственной интеллигенции и пенсионеров доля «рыночников» существенно ниже. Характерно в связи с отмеченными выше особенностями отношение групп населения к акционированию предприятий. Опрос,
осуществленный ВЦИОМом в конце декабря 1990 г., показал, что распространенность желания купить акции тем выше, чем более высоким образовательным уровнем, должностным статусом, личным и среднедушевным, семейными доходами обладают опрошенные[116]. Таким образом, можно сказать, что группа, ориентирующихся на рыночную экономику, представлена наиболее активной частью населения, для которой переход к новой системе экономических отношений связан с надеждами улучшить свой социальный статус в обществе благодаря своим способностям, собственным усилиям и квалификации. Рассмотренная выше группа «рыночников» была выделена на основе положительного отношения к шести характеристикам рыночной экономики. Если же проанализировать только по пяти признакам, то эта группа возрастает еще на 27%. Этот потенциальный прирост «рыночников» пополняется за счет тех категорий, которые характерны для описанного выше контингента. Следовательно, можно сказать, что идеи рыночной экономики достаточно широко распространены в обществе и принимаются большей частью активного населения. Специального внимания заслуживает группа лиц, имеющих неполное высшее образование, представленная в основном студентами вузов. Их отношение к рыночной экономике многое определяет в развитии нашей страны. Анализ социологических данных показывает, что эта группа наиболее радикально настроена на введение рыночной экономики. Почти 70% из этой группы ориентированы на свободную рыночную экономику, почти 80% – за большую дифференциацию доходов в зависимости от результатов труда, даже если она приведет сначала к безработице, инфляции и росту цен. Почти 75% высказались за свободу в экономической деятельности. Наконец, при всеобщем сдержанном отношении к теневой экономике, которое выявил наш опрос, группа студентов относится к ней более благосклонно, считая, что она восполняет тот дефицит, который не обеспечивает государственное производство (почти 60% против 23% по массиву); оценивает ее как реакцию против административно-командной системы (почти 47% против 29,6% по всем опрошенным); отмечает, что теневую экономику следует
узаконить в рамках разнообразия форм собственности (43,1% против 25,8% в целом по всем опрошенным). Показательно и отношение этой группы к своим знакомым в теневой экономике. Во-первых, лишь 39% из них не имеют таких знакомых – меньше, чем все другие группы (70%). Во-вторых, отрицательно к таким знакомым относятся только 5,1% (8,1% в целом), безразлично 11,6% (4,6% в целом), положительно 17,0% (5,6% в целом). Характерно, что 14,1% из группы с незаконченным высшим образованием считают для себя возможным участвовать в теневой экономике, в том числе в роли организаторов (10,5%). Отношение к теневой экономике может быть интерпретировано как отношение к полезности и необходимости предпринимательской деятельности, ибо другие формы предпринимательства тогда, в 1990 г., находились в зачаточном состоянии. Проведенное исследование ценностных ориентаций населения России показало значительный интерес к развитию рыночных отношений. Оно же выявило, что формируется активный субъект рыночных отношений с достаточно высоким уровнем образования; занятый в основных отраслях материального производства. Его социальные характеристики таковы, что позволяют говорить о больших потенциальных возможностях в формировании среднего слоя общества, включающего тех представителей рабочего класса, крестьянства и интеллигенции, которые ориентированы на реализацию своих интеллектуальных и творческих возможностей, способных высокоэффективно трудиться для достижения высокого качества жизни. Вместе с тем процесс формирования среднего слоя в России полон драматизма и трудно преодолимых негативных явлений. Движение от административной к рыночной экономике сопровождается в России колоссальными сдвигами в социальной сфере общества, прежде всего в его социальной структуре. Российская специфика в проведении модернизации, осуществлявшаяся после 1917 года в условиях тоталитарного политического режима, обусловила формирование достаточно уникального социального субъекта – массовой интеллигенции – наиболее профессионально образованной и культурной части общества. Именно интеллигенция подготовила перестройку, активно в ней участвовала, с нетерпением ускоряла преобразования. И вот пришли настоящие рыночные реформы, нередко в нецивилизованных формах. Но интеллигенция, которая надеялась войти в средний слой общества, оказалась в большинстве своем на обочине
преобразований. Остаются невостребованными профессиональные знания специалистов ВПК, за чертой бедности врачи, учителя, библиотекари, сокращается число ученых в академической и отраслевой науке, образовании. Происходит тектонический сдвиг в профессиональной структуре общества – утрата его интеллектуального потенциала. По данным Госкомстата России только в науке число занятых сократилось к началу 1993 г. по сравнению с 1990 г. на 27%, в том числе в академической науке – на 24%, отраслевой – на 30,4%, в вузовской – на 11,8%. Численность работников науки и образования, эмигрировавших в 1992 г., превысила 3,5 тыс. человек. За годы, прошедшие с начала перестройки по настоящее время, число работающих в научных организациях сократилось на 30%[117]. За этими изменениями начинается уже подрыв основ воспроизводства научного потенциала России, всей интеллектуальной сферы общества. И это не вина интеллигенции, а беда России, в которой оказались ненужными многие профессионалы. К предыдущим волнам эмиграции интеллигенции добавилась новая волна, которую отличает стремление навсегда порвать нити, связывающие с Россией, ассимилировать в новой среде своих детей. А все это означает, что формирование среднего слоя в России идет не самым оптимальным путем – образуется слой собственников, но утрачивается, сжимается характерное для развитых стран мира ядро среднего слоя – его интеллектуальная часть, работающая в науке и образовании, деградируют массовые группы интеллигенции. В связи с этим можно провести аналогию с положением другой составляющей среднего слоя, о которой писал М.Вебер. В начале XX века с развитием капитализма в России занятые ремеслом рабочие, для которых существовала перспектива стать «самостоятельным хозяином», утратили эту перспективу и становятся пролетариями. «В России городское «среднее сословие», – писал М.Вебер, – по историческим причинам было очень слабым само по себе, к тому же капитализм теперь еще больше ослабил его»[118]. В новых исторических условиях повторяется та же ситуация, но в отношении работников умственного труда: потенциальный средний слой в своей важнейшей части размывается, утрачивает свой гарантированный статус и с трудом, с большими потерями обретает новую социальную идентификацию
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ИЗ КРИЗИСА – К СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РЕФОРМАЦИИ?
Современное российское общество переживает драматичный этап модернизации. Сформировавшееся за десятилетия после 1917 г. тотальное отчуждение человека вовлекло советское, в том числе и российское, общество в патологический социокультурный кризис, чреватый катастрофой. Одновременно наше общество стремится само себя реформировать, в муках рождает социальные субъекты, которые смогут завершить модернизацию. Кризисно-реформируемое общество движется через конфликты, которые стимулируют движение и в то же время ставят под вопрос само существование общества. Многое зависит от характера ценностей, утверждающихся в сознании россиян. Идет процесс плюрализации ценностей. Он способствует дезинтеграции прежнего, тотального, общества. Через кризис прежней моносистемы, из ее дезинтеграции возникает иная интеграция – плюральное общество. Черты такого общества становятся все более явными во второй половине XX в. во многих странах – на Западе, Юге и Востоке от России. Россиянам следует быстрее осознать, что плюральность – это не недостаток, не эклектическая смесь несоединимого, а общецивилизационное качество жизни, вырастающее из самой природы человека как существа многомерного («меры всех вещей»). Это не зло, а благо для населения, ценность повседневной жизни. На поверхности общественной жизни бурлят страсти вокруг дилеммы «либерализм – тоталитаризм» («капитализм – социализм»). Но это дилемма прошлого, и страсти по ней бесплодны, они рождают лишь новых монстров конфронтации. России не следует пятиться ни к тоталитаризму, ни к либерализму в его «чистом» (тоже в прошлом) виде. Она уже двинулась вперед, к либеральному плюрализму: духовному, политическому, экономическому и социальному.
Такой плюрализм адекватен многомерности самого человека как био-социо-культурного существа. Он соответствует общецивилизационной тенденции: моносистемная модель общества, детерминируемого одним определяющим параметром (экономикой), уступает место полисистемной модели, допускающей паритетное воздействие нескольких параметров. Наблюдается взаимопроникновение различных укладов жизни, нашедшее отражение в теме XIII Всемирного социологического конгресса: «Пересекающиеся границы социальных структур и перестройка солидарностей» (солидарность в смысле Дюркгейма). Это соответствует и давней российской идее соборности, в светском ее выражении: соборность как такое соединение разнообразного, которое не сопровождается унификацией последнего, а возвышает себя путем культивирования разнообразия – как по вертикали, так и по горизонтали (в том числе культивирование традиций различных этносов). Процессы плюрализации наиболее отчетливо проявляются и встречают противодействие, когда они проникают в отношения власти и собственности. Прежде монолитная государственная власть дифференцируется на три ветви, друг друга ограничивающие, не позволяющие ни одной претендовать на полноту и тем лишающие себя возможности доминировать над индивидом. Одновременно они призваны взаимодействовать, дополняя друг друга, обеспечивая целостность общества, его динамизм и свободу индивидов. Ныне этот процесс происходит крайне мучительно, законодательная и исполнительная власти поддаются соблазнам усиливать себя за счет другой и даже третьей (судебной). Лишая себя возможности взаимодействовать, они уже не могут избавиться друг от друга. Непосредственным объектом борьбы за власть стала экономика. Из тотально государственной она становится смешанной. Но этот факт осознается совершенно неадекватно: либо как малозначимый, либо как идеологически окрашенный и потому негативный (смесь капитализма и социализма «недопустима», «невозможна» и т.п.). Между тем, уже с середины 60-х годов термин mixed economy широко применяется не только к развивающимся, но и к промышленно развитым странам с рыночной экономикой, в которых заметное место занимают государственная собственность и государственное регулирование экономики. При этом речь идет не просто о сосуществовании разных форм собственности, а о необходимом их взаимодействии ради совокупного эффекта для
населения в условиях плюрального общества. Разные секторы экономики выполняют в таком обществе разные функции, в том числе функцию поддержки друг друга, но осуществляемую каждым сектором по-своему. Поэтому и «права» у разных секторов разные. А политически смешанная экономика непосредственно коррелирует не с капитализмом или социализмом, а с демократией. Для постсоюзной России с ее 90%-ой государственной собственностью естественно движение вперед по пути смешанной экономики. При наличии такой экономики гражданам нет необходимости уезжать в другую страну, чтобы получить желаемые условия трудовой деятельности: одни предпочтут работать в частных фирмах, другие – на государственных предприятиях или учреждениях, третьи захотят быть самостоятельными, индивидуальными хозяевами. Разнообразие предпочтений – не кабинетное предположение, а сама жизнь: смысл экономической реформы будет гораздо понятнее населению, если ее последовательно вести под лозунгом формирования смешанной экономики. Эхо снизит остроту противостояния интересов, повысит гражданское согласие в коренном вопросе социально-экономических преобразований. Процесс плюрализации российского общества можно охарактеризовать как социокультурную реформацию, сущность которой составляет изменение положения индивида в обществе как целостной системе, в том числе по отношению к государственной власти. Индивид постепенно перестает быть только объектом воздействия со стороны государства и общества, становится субъектом в своих взаимоотношениях с властью, обретает большую свободу и идивидуализированную многомерность. Но происходит это очень трудно, вновь и вновь наталкиваясь на попытки различных сил вернуть индивида в прежнее, тотально подчиненное положение. Поэтому глубинный выбор, перед которым находится Россия, имеет общецивилизационный смысл: принимает ли Россия в качестве главного, определяющего человеческое измерение своего развития или же она по-прежнему будет подчинять это измерение иным, безличностно-институциональным параметрам? Принятие человеческого измерения в качестве определяющего критерия развития предполагает прежде всего отказ от попыток навязывать другим людям свои конструкции их светлого будущего. Исторический опыт свидетельствует, что такое навязывание чаще всего оказывается исторической ловушкой для всех, в том числе для его активистов. Реальными становятся не теоретические
конструкции пусть даже гениальных умов, а те социальные порядки, которые вырастают из самостоятельных действий множества граждан, движимых собственными интересами и формирующих собственные реальные представления о своем настоящем и о желательном для них будущем. Рационализация представлений и действий всевозрастающего числа граждан – важнейшая культурная составляющая цивилизованного развития любой страны. Одной из главных причин многих социальных превращений, происшедших с нами в XX веке, был дефицит рационализации сознания и действий советских людей. Вернее даже говорить об антирациональном, мифологическом сознании, целенаправленно и в массовом масштабе выращивавшемся в советском обществе. Такое сознание радикально деформировало смысл массовых действий даже в тех процессах, которые сами по себе изначально рациональны. Рациональный, выверенный историей ответ на вопрос «Что же дальше?» состоит в том, что пора, наконец, предоставить каждому гражданину России возможность обустраивать свою жизнь так, как он сам считает нужным, лишь бы это не противоречило нормам нравственности и не препятствовало осуществлению другими людьми прав и свобод, присущих в цивилизованном обществе каждому человеку от рождения. Принятие такого ориентира и его реализация стали бы для России главным содержанием социокультурной реформации. Почему речь идет о реформации? Латинское слово reformatio означает преобразование, но не переворот (французское revolution). Цивилизационные процессы протекают эволюционно, благодаря чему обеспечивают непрерывность человеческой истории. Даже интенсивные преобразования имеют характер не революции, а реформ. В исторической науке термином «реформация» обозначают широкое общественно-политическое и религиозное (протестантское) движение в Западной и Центральной Европе XVI в., противопоставившее внешним ритуалам католицизма внутреннюю свободу христианина, его сознательное стремление к добру как условие личной веры и спасения. Это был первый порыв к утверждению неотчуждаемых прав личности человека. По этой аналогии можно охарактеризовать нынешние процессы в России как начало своеобразной реформации. Конечно, по своему конкретному содержанию эти процессы означают отказ не от религиозных, а от светских догм и авторитетов, ценностей и стереотипов поведения в пользу земного человека с его материальными
и духовными потребностями и интересами. Это духовно-нравственная, политико-правовая и экономико-социальная реформация. Для краткости – социокультурная реформация. Вместе с тем, она восстанавливает и подлинную свободу совести, а потому включает аспект веры, в том числе религиозной. Есть ли основания надеяться, что социокультурная реформация в России конца XX в. возможна, реальна? Важнейшее основание заключается в том, что исходные («пусковые») ее процессы уже начались, а следующий их эшелон достаточно подготовлен. Логически и исторически пусковым процессом реформации служит поворот в умах людей. Как религиозная реформация XVI в. началась в мозгу монаха Лютера, так социокультурная реформация конца XX в. началась в голове ученого Сахарова. В годы перестройки начался и ныне продолжается переход от тотально-идеологизированной к плюрально-человеческой структуре ценностей. Исследование «Наши ценности сегодня» показало, что основу новой структуры ценностей составляет позиция, которую можно назвать повседневным гуманизмом. Ядро ее образует спокойная совесть. Вокруг этого ядра, как электроны в атоме, группируются ценности жизни, добра и красоты, правды и свободы, хороших отношений в семье и с друзьями и др. Все это нормальные человеческие, общечеловеческие ценности, разделяемые подавляющим большинством россиян и интегрирующие их поведение в самых массовых пластах жизни. Это нравственная предпосылка сохранения России как целого. На гуманистической почве возникла иная, двухполюсная позиция, крайние точки которой образуют: потребительский конформизм и предприимчивый нонконформизм. В интеллектуально более развитых слоях населения эти полюса разделяются на самостоятельные макропозиции, дифференцирующие россиян на существенно разные группы сознания и поведения. Наряду с этим, обнаружена отрицаемая позиция властолюбивого эгоизма. В сознании большинства россиян власть несовместима со спокойной совестью! Вопреки расхожим представлениям, отрицается и равенство доходов как ценность. Тем самым оно оказывается в одной связке с властью. В ситуациях острых конфликтов (массовые забастовки, вооруженные столкновения) описанная структура ценностей видоизменяется: повседневный гуманизм остается доминирующим, но в центре его оказывается уже не самоценность спокойной совести, а такая инструментальная ценность как самообеспечение индивидом
своей безопасности. И в августовские дни 1991 г. защитников демократии не покинул гуманизм, при этом действовали они прежде всего ради своих собственных интересов. Это их и объединяло, а не просто абстрактные соображения. Этот факт делает несостоятельной часто используемую ныне ссылку на известное пушкинское «Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Русский народ ныне не тот, каким он был во времена Пугачева, декабристов, Герцена и даже гражданской войны 1918–1920 гг. – не прошли даром духовный взлет России в XIX в. и трагические уроки истории XX в. Горькая и в то же время мудрая стойкость россиян в дни и ночи августовского путча явила всему миру народ, чуждый бессмысленному и беспощадному бунту. На высоте удержался он и в дни октябрьской смуты 1993 г. Хотя было бы наивно зарекаться от тех или иных трагических эксцессов в будущем. Все это свидетельствует о реальности гуманизации как пускового процесса социокультурной реформации в России. Но процесс этот находится лишь на начальной стадии. Его продолжение зависит от дальнейшей рационализации сознания и действий людей, прежде всего от развития культуры, науки (особенно гуманитарной), образования и просвещения, литературы и искусства. Если российская культура не получит необходимой поддержки со стороны демократического государства (а больше ей пока неоткуда получить такую поддержку), то процесс гуманизации может заглохнуть. Это станет сигналом бедствия всей социокультурной реформации. В паре с гуманизацией идет процесс легитимации – обеспечения законности действий всех государственных органов и граждан. Без этого гуманизация оставалась бы лишь фактом культурной жизни общества, в котором закон выше любого субъекта, но не выше прав человека, – их он должен обеспечивать и никогда не противоречить им. Российский парламент принял пакет первоочередных законов, но они во многом остаются на бумаге. Следующая пара процессов – приватизация средств труда и демилитаризация самой структуры общества. Приватизация значительной части государственной собственности служит базовым процессом реформации. В пользу этого процесса высказываются больше россиян, чем против. Около половины населения – за рыночную экономику, при которой продается много потребительских товаров высокого качества, хотя не все имеют возможность купить их из-за высоких цен. Треть трудоспособных
желают работать на частных, арендных, акционерных и иных негосударственных предприятиях, а еще четверть – иметь такую работу как источник дополнительного заработка. Следовательно, есть субъективные предпосылки для расширения приватизации и формирования смешанной экономики. Нужны такие экономические механизмы, эффективность которых не зависела бы (или эта зависимость была бы минимальной) от перипетий политической борьбы. Дальнейшее торможение этих процессов чревато экономическим крахом. Одно из главных препятствий на пути приватизации – высокая степень милитаризации промышленности в России. До сих пор общественность не имеет надежных данных о структуре производства для военных нужд, о доле этого производства в промышленном потенциале страны. Без таких данных не может быть компетентного решения ни вопросов конверсии, ни проблем приватизации промышленных предприятий. Но ясно, что демилитаризация структуры производства – насущная задача. И еще два различных, по-своему результирующих процесса реформации. Во-первых, инноватизация всей хозяйственной деятельности. Утверждение конкурентности между производителями и резкое понижение заборов секретности позволят повысить восприимчивость частных и государственных предприятий к продуктным и технологическим нововведениям, заинтересуют в интенсификации инновационных процессов. По сути, именно здесь кроется механизм роста эффективности производства, насыщения потребительского рынка разнообразными товарами высокого качества. Во-вторых, социальная реинтеграция российского общества. За последние годы произошла глубокая дезинтеграция всех общественных структур, или тотальная социальная дезинтеграция. Большинство социальных субъектов утратили свою идентификацию с прежними структурами, кроме этнических, которые и приобрели гипертрофированное влияние в обществе. Только начались процессы пересоздания структур российского общества и переориентации его субъектов. Пока они развертываются как следствие приватизации и других названных выше процессов. Но по мере своего становления новые социальные группы и институты будут оказывать все более заметное влияние на породившие их процессы. Социокультурная реформация будет получать в них свою кристаллизацию. Не стоит гадать, какими они станут.
Таковы три основные пары процессов социокультурной реформации в России. Их развертывание означало бы эволюцию российского общества в том же направлении, в котором движется современная цивилизация, в направлении утверждения человеческого измерения в качестве определяющего, рационализации хозяйственной и общественной деятельности людей, увеличения степеней свободы человека. Но процессы эти остаются обратимыми, пока сохраняется патологический, циклически воспроизводящийся характер кризиса нашего общества.
СОДЕРЖАНИЕ
Примечания
[1] Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1991. С. 379.
[2] В гл. 2 использованы идеи, высказанные А.А.Игнатьевым и Э.А.Орловой на научном семинаре во ВНИИСИ (теперь ИСА) РАН в конце 80-х начале 90-х годов.
[3] Столыпин П.А. Нам нужна великая Россия. М., 1991; Бородай Ю.М. Кому быть владельцем земли //Наш современник. 1990. N 3.
[4] Чаянов A.B. Крестьянское хозяйство. М., 1989.
[5] В человеческом измерении. М., 1989. С. 210.
[6] Попов В., Шмелев Н. На развилке дорог. Была ли альтернатива сталинской модели // Осмыслить культ Сталина. М., 1989. С. 289, 296–297.
[7] Аргументы и факты. 1991. N 16. С. 2.
[8] Calwer R. Einfuhrung in die Welt wirts chaft. B, 1906. Цит. по: Ленин В.И. Империализм как высшая стадия капитализма // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 27. С. 395.
[9] Calwer R. Einfuhrung in die Welt wirts chaft. С 393.
[10] Васильков Т. Корреляция этапов // Наш современник. 1990. N 9. С. 130.
[11] Аргументы и факты. 1990. N 3. С. 7.
[12] Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. М., 1989. См. также: Меньшиков С.М., Клименко Л.А. Длинные волны в экономике. М., 1989.
[13] Источник: Вестник статистики. 1991. N 2. С. 35.
[14] Источник: Вестник статистики. 1991. N 6. С. 48.
[15] Источник: Вестник статистики. 1991. N 2. С. 29.
[16] Арутюнян Ю.В. Социальная структура сельского населения. М., 1971; Гордон Л.А., Назимова А.К. Рабочий класс СССР: тенденции и перспективы социально-экономического развития. М., 1985; Этносоциальные проблемы города. М., 1986; Заславская Т.И., Рывкина Р.В. Социология экономической жизни. Очерк теории. Новосибирск, 1991.
[17] Стариков Е. Новые элементы социальной структуры // Коммунист. 1990. N 5; Он же. Маргиналы // В человеческом измерении. М., 1989.
[18] Руткевич М.Н. Становление социальной однородности. М., 1982. С. 156.
[19] Заславская Т.И., Рывкина Р.В. Социология экономической жизни. С. 330.
[20] Например, Джилас М. «Новый класс». М., 1957; Восленский М.С Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. M., 1991.
[21] Независимая газета. 1991. 14 марта.
[22] Материмы XXIV съезда КПСС. М., 1971. С. 98–99.
[23] Горизонт. 1989. N 5.
[24] Вестник статистики. 1992. N 3. С. 23.
[25] Стариков Е. Новые элементы социальной структуры // Коммунист. 1990. N 5. С. 38.
[26] Попов В., Шмелев Н. Анатомия дефицита // Знамя. 1988. N 5. С. 169.
[27] См., например об этом: Levy M. Modernization and the structure of societies: A setting for international affairs. Princeton, 1960; Bendix R. Tradition and modernity reconsidered // Comparative studies in society and history. The Hague, 1967. Vol. 9, N 1.
[28] Smelser N. Theory of collective behavior. L., 1962. P. 13–14.
[29] Parsons Т. Evolutionary universals in Society // Amer. sociol.rev. N.Y., 1964. Vol. 29, N 3.
[30] Buck G.L., Jacobson A.L. Social, evolution and structural analysis: an empirici test // Amer. sociol.rev. N.Y., 1968. Vol. 33, N 3. P. 349.
[31] Мимо идей теории модернизации не прошли ни Н.С.Тимашев, ни Т.Шанин, ни Р.Пайпс, ни Т.Мак-Даниэл, ни Дж.В.Кип, ни В.Линкольн и другие известные исследователи России.
[32] Особенно часто цитируют А.Белого: «С той чреватой поры, как примчался сюда металлический Всадник, как сбросил коня на финляндский гранит – надвое разделилась Россия; надвое разделились и судьбы отечества, надвое разделилась, страдая и плача, до последнего часа Россия» (Белый А. Петербург. М., 1978, С. 89–90).
[33] Ахиезер A.C. Россия: критика исторического опыта. М., 1991. Т. 3. С. 293.
[34] Чтобы осознать реальное положение вещей, достаточно назвать лишь несколько потрясающих цифр, говорящих о масштабах соотношения социальных сил в обществе: в начале XX века «на все содержание и все нужды человека в среднем приходилось немного более гривенника в сутки» (Ротванд С. По поводу государственной росписи на 1909 // Промышленность и торговля. Спб., 1909. N 11. С. 652). Более 80% населения (жители деревни) потребляли не более 30% товаров, хотя рынок промышленных изделий был «жалким» (Русская промышленность и налоги // Промышленность и торговля Спб., 1909. N 10. С. 590).
[35] Население СССР. М., 1983. С. 19.
[36] Ахиезер A.C. Россия: критика исторического опыта. Т. 1. С. 315–316.
[37] Ключевский В.О. Курс русской истории // Ключевский В.О. Соч. М., 1992, Т. 1. С. 61.
[38] См.: Мамардашвили М. Как я понимаю философию. М., 1990. С. 315–328.
[39] Новожилов В.В. Недостаток товаров // Вестник финансов. 1926. N 2.
[40] Гордон Л.А., Клопов Э.В. Что это было? Μ., 1989.
[41] Орлов Б.П. Истоки перестройки // ЭКО. 1989.N 5.
[42] По официальный данным, с 1930 пo 1953 гг. непосредственно по обвинению в контрреволюционных и других государственных преступлениях было осуждено 3.778.234 человека, из них к расстрелу приговорено 786.098 человек (См.: Правительственный вестник. 1990. N 7).
[43] Тоталитаризм как исторический феномен. М., 1989.
[44] Богданов A.A. Тектология. Всеобщая организационная наука. М., 1989. Кн. 2. С. 218.
[45] Исследование было инициировано Научным советом Отделения философии и права АН СССР по проблемам диалектики развития советского общества и поддержано Российским обществом социологов (РОС). В исследовании участвовали социальные философы (Институт философии АН СССР), социологи-теоретики и специалисты в области методики и техники социологических исследований, включая технику обработки данных на ЭВМ (Институт социологии АН СССР), специалисты по проведению полевых исследований (социологический факультет МГУ, ряд региональных отделений РОС). Основные участники исследования: Н.И.Лапин (руководитель), Н.И.Андреев, Л.А.Беляева, Б.Г.Григорьев, Г.М.Денисовский, А.В.Захаров, А.Г.Здравомыслов, П.М.Козырева, В.В.Колбановскйй, В.Ю.Копылова, А.О.Крыштановсхий, М.А.Макаревич, И.Я.Миндлин, Н.Ф.Наумова, С.И.Рылепа, С.В.Туманов, В.А.Ядов. В полевых работах участвовали преподаватели, аспиранты, студенты-старшекурсники социологического факультета МГУ, сотрудники ряда региональных социологических центров. В 1993–1995 гг. проводится, при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, повторное исследование «Динамика ценностей населения реформируемой России». В нем используется методика, обеспечивающая сопоставимость с результатами первого исследования. Это позволит глубже понять динамику кризиса российского общества и тенденции изменения ценностного сознания россиян.
[46] Мы тогда пришли к такому заключению: «Институционализация конфликтов может стать предпосылкой последующего движения к общественному консенсусу. Сегодня низка вероятность непосредственного, «лобового» движения к такому консенсусу. Но вероятность его достижения обходным путем, через институционализацию конфликтов, может оказаться весьма высокой (45% – 45% + 10% = 55%). Напротив, если эта возможность будет упускаться, то возрастет опасность справа – опасность отката назад, который станет катализатором неуправляемого движения к катастрофе (ее вероятность повысится с 15% до 15% +30% = 45%). Такова диалектика движения у перекрестка кризисных дорог» (Лапин Н.И. У перекрестка кризисных дорог // Отчуждение, ранний социализм и противоречия перестройки. М., 1990. С. 96).
[47] Пригожин И.. Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 1986. Гл. 5.
[48] Князева Е.И., Курдюмов СП. Синергетика как новое мировидение: диалог с И.Пригожиным // Вопр. философии. 1992.N 16. C. 16.
[49] Князева Е.И., Курдюмов С.П., Цит. стати. С. 20.
[50] Вебер М. Избранные произведения. M., 1990. С. 628–630.
[51] Князева E.H., Курдюмов С.П. Цит. статья. С. 27–28.
[52] Ортега-и-Гассет. Новые симптомы // Проблема человеке в западной философии. М., 1988. С. 206.
[53] Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценностн. М., 1986.
[54] Это фундаментальное различение ценностей положено в основу рада исследований, см.: Rokeach M. The nature of human values. The free press. N.Y.; L., 1973; Саморегулирование и прогнозирование социального поведения личности. Под. ред. В.А.Ядова. М., 1979. Гл. 3.
[55] Теснота связей между ценностями определялась на основании коэффициента Пирсона (С ), характеризующего уровень сопряженности между соответствующими ценностными аспектами (суждениями): при С > 0,4 связь считалась достаточно тесной. При этом учитывались только те пары сопрягаемых суждений, в которых по обоим суждениям высказались «за» или «против» (число наблюдений Я в точках пересечений) не менее 10% от выборочной совокупности: для основного массива n > 100, для «горячих точек» n > 50. Более детально ценностные макропозиции представлены в статье: Лапин Н.И. Тяжкие годины России (Перелом истории, кризис, ценности, перспективы) // Мир России. 1992. N 1.
[56] Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности. С. 47–53.
[57] Наумова Н.Ф. Социологические и психологические аспекты целенаправленного поведения. М., 1988. С. 126–133.
[58] Поведенчески-мотивирующие ценности – такие, которые «здесь и теперь» мотивируют фактическое поведение людей, направляют его в определенные сферы социальной активности (не обязательно в классической, а скорее в современной типологии этих сфер: работа в государственной или кооперативной организации, или индивидуальная; работа с соблюдением правовых норм или допускающая криминальные элементы, или преимущественно незаконная; служба в учреждении или самовыражение в деятельности неформальных организаций и т.п.). На содержание этих ценностей влияют ценности более высокого уровня, формирующиеся на основе ожившего недавнего или далекого социального прошлого в лице социально-исторических групп.
[59] Социально-исторические группы – социальные группы с общей конкретно-исторической судьбой в годы советской власти, т.е. на протяжении нескольких поколений. Как правило, они имеют дихотомическую структуру: активные субъекты административно-командной системы – пассивные объекты ее воздействия; «служители светской или религиозной идеологии ее реципиенты; национальное большинство меньшинство (коренная – некоренная нация); потомственные интеллигенты впервые приобщающиеся к интеллектуальному труду; коренные горожане · коренные селяне и т.д.
[60] См.: Углубление социальной дезинтеграции в 1990 г. как фактор противоречивого развития новых социальных структур и отношений в обществе // Информационные материалы по программе ОФП «Социальные процессы в условиях перестройки». Вып. 6. M., 1991.
[61] Репрезентативность выборочной совокупности подтверждается данными Всероссийского референдума 25 апреля 1993 г. (Российская газета, 19 мая 1993 г.). Взяв данные по 12 регионам, вошедшим в выборку исследования «Наши ценности сегодня», и сопоставив их с общероссийскими данными, мы получили по всем четырем вопросам референдума статистически допустимые отклонения результатов выборочной совокупности от генеральной в пределах 6,5%.
[62] Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 41. С. 166.
[63] Под макросистемой мы понимаем общество в целом. Система национальных отношений представляет собой подсистему в рамках макросистемы.
[64] Примером такой иерархической этнической системы может служить этнолингвистическая общность обских ургов, имеющая три уровня внутриэтнической иерархии.
[65] Известия. 1987. 24 янв.
[66] Материалы статистического управления Республики Саха (Якутия).
[67] Арнольд В.И. Теория катастроф. М., 1990. С. 8.
[68] Гордеев Б., Шамардина Л.С. С ответом не сходится // Соц. индустрия. 1986. 13 апр.
[69] Но уже имеются специализированные издания. Так, во второе десятилетие вступил International journal of mass emergancies and disasters, издаваемый Исследовательским комитетом по катастрофам Международной социологической ассоциации и Центром исследований катастроф Делаварского университета (США).
[70] Грушин Б.А. Массовое сознание. М., 1987.
[71] Давыдов Ю.Н. Тоталитаризм и тоталитарная бюрократии. // Наука и жизнь. 1989. N 8. С. 46–47.
[72] Мамардашвили М.К. Вопр. философии. 1992. N 5. С. 108–109.
[73] Лапин Н. И. Глава 4 в настоящей книге.
[74] См.:Левада Ю.А. Структура социальная //Филос. энцикл. М., 1970. Т. 5.
[75] Стариков Е. Новые элементы социальной структуры // Коммунист. 1990. N 5. С. 32.
[76] Фурсов А.И. Возникновение капитализма и европейское общество сквозь призму коньюктивного подхода // Социол. исслед. 1991. Ν 11. С. 45–47.
[77] Заславская Т.И., Рывкина Р.В. Экономическая социология и перестройка. М., 1989.
[78] Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 404.
[79] Здравомыслов А.Г. Потребности, интересы, ценности. М., 1986.
[80] См. главу 4 в настоящей книге.
[81] Ход цивилизационного процесса и обозначения его крупных типов рассматривается в работах Б.А.Грушнна, Г.Г.Дилигенского, В.С.Степина, В.А.Ядова.
[82] Доля консерваторов, согласных или несогласных с оценочных суждением, принимается за 1. По этой величине фиксируется индекс согласия иди несогласия прогрессиста.
[83] Маркс К.. Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 10, С. 124.
[84] Там же. Т. 26, ч. 2. С. 636.
[85] Бернштейн Э. Проблемы социализма и задачи социал-демократии. M., 1901. С. 132–133.
[86] Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 318.
[87] На это обращает внимание Э.М.Коржева в настоящей книге.
[88] Ортега-и-Гассет X. Восстание масс. – Дегуманизация искусства и другие работы. М., 1991. С. 53.
[89] Franke В. Die Kleinbürger. Begriff, ideologie, Politic. F.o.M.; N.Y., 1988.
[90] См.: Kivinen M. The New Middle Classes and the Labour Process // Acta Sociologika. Oslo, 1089. N 32. P. 53–73.
[91] См.: Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. M., 1949.
[92] См.: Ольсееич Ю. Послевоенная зарубежная экономическая мысль: уроки плюрализма // Вопр. экономики. 1991. N 10. С. 126–136.
[93] См.: Современный капитализм: социально-политические проблемы и противоречия НТР. М., 1989. С. 22–23.
[94] См.: Общественная мысль за рубежом. M., 1991.N 3.
[95] Kuttner R. The End of Laissez – Faire. National Purpose and the Global Economy after the Cold War. N.Y., 1991. P. 247.
[96] Muller E.N. Democracy, economic development and income ineguality // Amer.sociol.rev. N.Y., 1988. Vol. 53, N 2. P. 66.
[97] См.: Общественная мысль за рубежом. 1991. N 5.
[98] См.: Стариков Е. «Угрожает» ли нам появление «среднего класса»? // Знание. 1990. N 10. С. 192–196.
[99] См.: Наумова Н. Переходный период: мировой опыт и наши проблемы // Коммунист. 1990. N 8. С. 3–14.
[100] См.: Кустырев А. Начала русской революции: версия Макса Вебера // Вопр. философии. 1990. N 8. С. 119.
[101] См.: Szczupacivnski J. Stare i nowe klasy srednie: Zezys problemu // Nowe drogi. W-wa., 1982. N 8. P. 60.
[102] См.: Виханский О. Кто поведет к рынку // Вопр. экономики. 1992. N 1. С. 10–18.
[103] Изгоев A.C. Социализм, культура и большевизм // Из глубины. Сб. статей о русской революции. М., 1990. С. 162.
[104] См.: Социальное развитие СССР. М., 1990. С. 53.
[105] См.: Отношение населения к перспективе перехода к рынку // Вопр. экономики. 1990. N 7. С. 53.
[106] См.: Глазьев С., Львов Д. Остаться вчерашними? Хозяйственная реформа и научно-технический прогресс // Коммунист. 1989. N 8. С. 21.
[107] См.: Зотеев Г., Хьюит Э. Процесс экономических реформ и его катализаторы // Коммунист. 1989. N 13. С. 53.
[108] См.: Коммунист. 1990. N 16. С. 70–72. И еще одно мнение. Отечественный экономист С.Меньшиков считает, что в нашей стране в распределении национального дохода, направляемого на оплату труда, происходит недоплата по сравнению с развитыми странами в расчете на единицу продукции в размере не менее 65% – См.: Меньшиков С. Советская экономика: катастрофа или катарсис. М., 1990. С. 113.
[109] См.: Джеймс М. Бьюкенен. Минимальная полтика рыночной системы // Вопр. экономики. 1990. N 12. С. 7.
[110] См.: Ясин Е. Разгосударствление и приватизация // Коммунист. 1991. N 5. С. 99–111; Пияшева Л. Раздача; Алексеев С. Обретение // Лит. газ. 1990. 12 дек.; Вольский А. Рынок и экономическая стабилизация // Коммунист. 1991. N 6.
[111] Гайдар Е. Т. Экономические реформы и иерархические структуры. М., 1990. С. 164–174.
[112] См.: Стародубровская И. Основы антимонопольной политики // Вопр. экономики. 1990. N 6.
[113] См.: Ясин Е. Разгосударствление и приватизация. С. 111.
[114] Шиллер Р., Бойко М., Коробов В. Рынок в восприятии советской и американской общественности. (Сравнительный анализ) // Мировая экономика и международные отношения. 1992. N 2. С. 39–54.
[115] По данным опроса, проведенного под руководством Ж.Тощенко, около 50% из этой группы в случае потерн работы хотели бы уже в 1990 г. выехать за границу. – См.: Человек и экономика (результаты социологического анализа) // Информ. бюлл. N 7. M., 1990. С. 29.
[116] См.: Космарский В. Акции: собирается ли их покупать население // Вопр. экономики. 1991. С. 71–76.
[117] См.: Известия. 1993. 30 апр.
[118] Вебер М. К состоянию буржуазной демократии в России // Филос. и социал. мысль. 1991. N 10. С. 128. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||