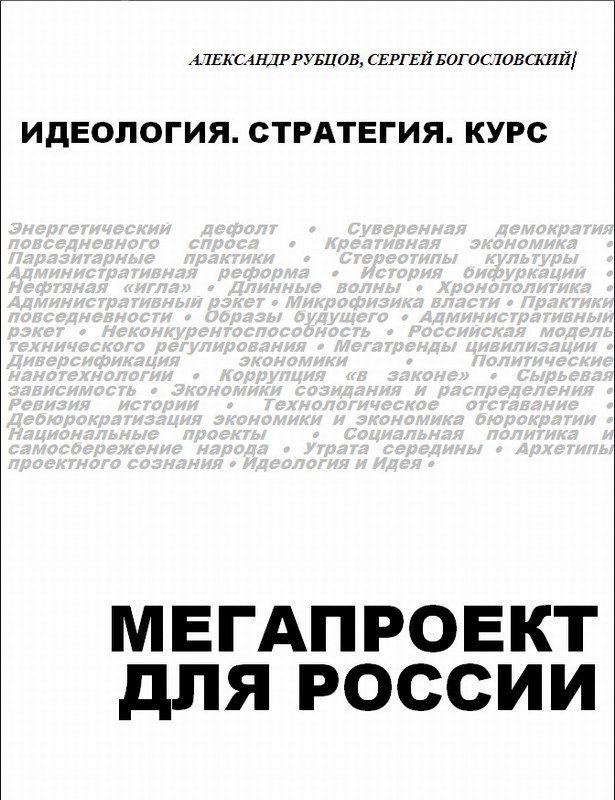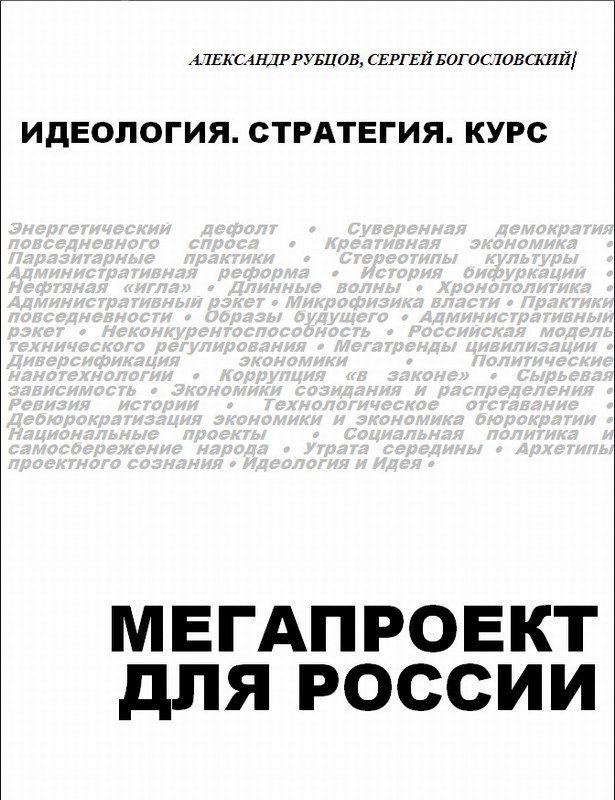АЛЕКСАНДР РУБЦОВ, СЕРГЕЙ БОГОСЛОВСКИЙ
МЕГАПРОЕКТ ДЛЯ РОССИИ: ИДЕОЛОГИЯ, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА
Москва, 2007
Современный этап развития России рассматривается в книге как вхождение в мегапроект, предполагающий решение ряда взаимоувязанных задач исторического масштаба в области экономики, технологий, политики, идеологии и сознания общества. Вскрываются взаимосвязи между преодолением зависимости от экспорта ресурсов, развитием инновационной экономики, становлением суверенной демократии и переходом к реализации активных социальных программ. Противоречия процесса дебюрократизации рассматриваются в контексте доминирования сырьевой, распределительной экономики. Обсуждаются проблемы и перспективы запуска реальной, производящей экономики. Ставится вопрос о нарастающем дефиците времени, отведенном стране на преодоление технологического отставания и проведение диверсификации, достаточной для предотвращения системного кризиса в случае падения доходов от экспорта энергоресурсов.
Книга адресована специалистам в области политической философии, политэкономической, социальной и идеологической проблематики, функционерам в сфере политики и управления, всем интересующимся актуальными процессами и перспективами развития страны.
Филиал ФГУП Издательство "Известия"
Управления делами Президента Российской Федерации
Филиал Спецпроизводство
Никольский пер. д.6/3б стр.1
|
|
|
“Но нужна была совершенно детская вера в спасительную силу молитвы и исповеди, для того чтобы вообразить себе, что народ может в одно прекрасное утро покаяться, сбросить с себя все грехи и затем встать обновленным и разить врагов врученным ему божьим мечом. Те, кто глубже понимали исторические задачи, знали очень хорошо, что для истинного обновления нужны многие годы и много бескорыстного и самоотверженного труда”
Б.Н.Чичерин
|
Иногда в жизни все идет своим чередом, но что-то вдруг начинает происходить в языке. Поначалу кажется, что это только слова. А потом историки задним числом именно этот момент определяют как поворотный. При должном внимании такие процессы можно отслеживать и в реальном времени, online.
С некоторых пор в программных текстах и политической речи появились устойчивые конструкции: «суверенная демократия», «самосознание нации», «национальные проекты», «конкурентоспособность», «преодоление технологического отставания», «инновации», «высокие технологии», «экономика знания». За этими словами проступают другие: «идеология», «стратегия», «курс». Налицо признаки зарождения мегапроекта.
Мегапроект – сложная конструкция. Это больше, чем просто идеология. Идеи могут пылиться в книгах, увлекать экспертов, развлекать элиты и даже овладевать массами. Но исторический процесс переходит в совершенно иное качество, когда идеология получает продолжение в масштабных планах и реалиях переустройства действительности. Мегапроект – это идеология власти, которую власть имеет возможность воплощать – и реально воплощает на «теле» общества. Мегапроект – это страна на марше.
Обычно бывает так. На смену «безыдейности» или вялой идеологии существования приходит идеология интенсивного изменения, целенаправленного исторического действия. Или, наоборот, из ряда отдельных жизнеустроительных программ постепенно проступает и объединяется в целое прежде еще только намечавшаяся идеологическая форма. У страны появляется Большой План. Его наличие включает реальность в замкнутый контур: идеология начинает решительно исправлять жизнь, которая, в свою очередь, обратной связью пытается править идеологию. Политика, экономика, социальная и гуманитарная сфера – все заплетается в узел, затягиваемый общей идейной конструкцией.
Стандартное продолжение такого начала: грани между проектом, политическим действием и реальностью быстро стираются. Воплощением идеологии становятся войны и союзы, внешне– и внутриполитические акты, трансформации в экономике и в организации быта, глобальные и местные инициативы, космос и континентальные трассы, наука, спорт, балет, маяки производства и социальные программы, объекты архитектуры и инженерии. Сюда же подтягиваются религия и общественная мораль, школа и собес, награды и репрессии, демография и здравоохранение, покорение природы и экология.
В радикальном варианте «материализация духов» становится главным занятием власти, а отчасти и общества. Полеты в космос, научные открытия, производственные и спортивные рекорды, достижения официальной культуры – все это становится уже не продолжением идеологии, а собственно идеологическим действием. Возникает множество квазипрактических проектов, сугубо затратных, никакого или почти никакого реального выхода не имеющих, но необходимых для воспроизводства идеологического образа страны и общества. Интерфейс превращается в самоцель и замещает реальность. Сюда вкладываются гигантские средства, проекты ставятся на политический контроль. Общество наблюдает, как эти проекты обслуживаются пропагандой, не всегда понимая, до какой степени эти проекты обслуживают пропаганду, а через нее – идеологию, что они, собственно, уже и есть сама идеология.
Но даже если отбросить радикальные варианты – реализация любого мегапроекта это совершенно особый исторический режим, со своими возможностями и рисками, которые желательно предусмотреть заранее.
* * *
Можно по-разному оценивать нашу продвинутость в этом направлении, но симптомов уже достаточно, чтобы думать и говорить о проблеме всерьез.
В начале XXI века Россия переживает период реабилитации идеологии. Пока это скорее уровень экспертов и элит, читающих идеологические параграфы. Массами овладевают не столько оформленные идеи, сколько настроение, само «ожидание идеологического». Но уже намечаются черты Большого Стиля – идейно окрашенной и идеологически скоординированной политики. Металл в голосе дипломатии и повышенная задушевность «сбережения народа», выстраивание вертикали власти и юношеских организаций, сигналы бизнесу и обывателям, высочайшие установки, что делать с наукой, какие направления в экономике и технологиях развивать, на какие перспективы работать и рассчитывать – все это строит один, достаточно целостный и внутренне скоординированный образ.
Более того, еще только пытающаяся оформиться идеология уже обрастает целым комплексом масштабных стратегических, жизнеустроительных программ. При этом не надо дожидаться, когда формирование мегапроекта станет явным и близким к завершению. Как уже отмечалось, поворотной точкой является само вхождение в этот режим.
В этом отношении Россия уже перешла некоторый рубеж. Еще недавно ничего подобного у нас не было и быть не могло. Ельцинская репетиция с национальной идеей была именно репетицией, поскольку в то время не было общества, которое такую идею могло бы воспринять от кого бы то ни было, и не было инстанции, от которой такие идеи могли быть вброшены хотя бы на осмысление, а не сразу на штыки или в осмеяние.
Ситуация с тех пор изменилась. Инстанция с признаками устойчивой харизмы, позволяющей из власти изрекать идеологическое, уже почти есть. Отторжение всего, что связано с идеологией, перестает быть автоматическим и тотальным. Постепенно и отчасти, но все же восстанавливается готовность «пойти за», «уверовать в», поддержать свершения, компенсировать необустроенность внизу и в деталях гордостью за эпохальное наверху и в целом.
Наконец, появляется политический, финансовый и организационный ресурс для запуска больших программ, без чего перерастание идеологии в мегапроект немыслимо.
Страна, в которой мегапроект стал хотя бы возможен, а тем более формируется – это уже совсем другая страна. Даже если в ней пока не менялись политический режим и тип экономики.
* * *
Общество это улавливает, не всегда осознанно, но чутко. Отношение к новой ситуации активно формируется, и оно уже разное. Для одних свершилось долгожданное: власть «вспомнила», что общество должно иметь свои ценности, цели, видеть стратегию развития и пути ее реализации, делать что-то масштабное, впечатляющее сейчас и исторически запоминающееся. Для других даже планы технологических прорывов – не более чем иллюстрированная идеология, подобно космосу в СССР: дорого, непрактично, но духоподъемно.
Неоднозначны и перспективы. Мегапроект – предприятие героическое, а потому рискованное. Даже в плане пропаганды. Например, передозировка с нанотехнологиями довольно быстро может вызвать эффект «царицы полей».
Мегапроект налагает на власть в целом и персонально на лидеров дополнительную ответственность за результаты. Это всегда крупные инвестиции, финансовые и в социальные ожидания. При неблагоприятном исходе списывают средства, но не идеологические авансы.
Наконец, мегапроект может оказаться плохо совместим с генетикой страны и с глобальными трендами. В России любят неровные ритмы и сильные решения, от Емели и Муромца, до Петра и Джугашвили. Но в долгосрочной перспективе оказывается, что однозначно красивые исходы все же более свойственны сказкам. Слишком часто мегапроекты начинаются энтузиазмом и локальными триумфами, а заканчиваются обвалами, апатией, признанием несоизмеримости жертв и достижений. Временные успехи берутся у истории в долг, который отдавать нечем, а потому приходится оплачивать судьбами поколений.
Что же до постсовременной цивилизации в целом, то она к мегапроектам вообще относится крайне настороженно. И не только потому, что человечество лишь сейчас что-то важное начинает понимать, но и потому что это понимание приходит именно тогда, когда меняются самые фундаментальные установки развития. В этой переоценке ценностей одно из ключевых мест занимает именно проектно-преобразовательный пафос техногенной цивилизации – сама философия развития через мегапроекты, через сверхмощную социально-экономическую и общественно-политическую инженерию.
Но как бы там ни было, очень большим и генетически амбициозным странам до сих пор свойственно попадать в ситуации, сами условия выхода из которых располагают к запуску программ, тяготеющих к формату мегапроекта. Такие программы и в самом деле могут давать положительный, иногда спасительный результат. Но при этом необходимо, насколько возможно, заранее снизить известные риски.
Главный риск очевиден. Идеологиям вообще свойственно вырождаться. Создаваемые из благих побуждений, они являются слишком удобным инструментом манипуляции. Поэтому они с такой регулярностью оборачиваются оправданием массовой неустроенности, ненужных жертв и непонятных расходов, раздутости неэффективного государства, присвоения благ и власти отдельными группировками. Или они могут в разы преувеличивать реальные положительные сдвиги, опять же манипулируя сознанием людей в интересах власти. Поскольку в обществе всегда остается определенный процент слабо внушаемых, заканчивается все информационным и физическим насилием, подавлением инакомыслия.
В современном мире такие срывы становятся все менее вероятными и все более обреченными. Помогают два обстоятельства: резко возрастающие скорости развития и, пусть слабая, но все же накапливающаяся обучаемость общества. Мегапроекты постепенно освобождаются от политической метафизики. Они становятся более приземленными и прагматичными, а их результаты – близкими по времени и проверяемыми. Если мегапроект нужен, чтобы вывести страну из сложного положения, то он либо выведет ее, либо заведет в очередной тупик, но теперь выяснится это по историческим меркам быстро, на веку этих поколений, еще при жизни проектантов, исполнителей и зрителей. Поэтому овации или свист упадут уже не на могилы, а прямо в лицо.
Проблема также в том, что начавшееся формирование мегапроекта в определенный момент переходит в такую стадию, когда работу с ним уже нельзя бросить на полпути. Если мегапроект в силу тех или иных причин становится неизбежным, его надо приводить к полноте и системности. Недоделанные, фрагментарные мегапроекты особенно опасны. Они нарушают балансы и рождают монстров с гипертрофированными либо атрофированными частями тела. Поэтому при запуске особо больших программ так важны продуманные и нормальные взаимосвязи между всеми элементами в системе изменений.
Постепенно вырисовываются главные маршруты предстоящего похода. Страну надо снимать с нефтяной «иглы». На противоположном фланге продвигаются инновации, высокие технологии и наукоемкие производства – экономика знания. Кое-что планируется сделать в реальной экономике. Сверху все это накрывается зонтом суверенной демократии. Снизу социальную сферу прикрывают национальные проекты.
Что до детализации этих планов, то на общество все это пока выходит в полуразобранном виде: нанотехнологии, суверенитет, информатизация, несимметричные ответы, ипотека, самостоятельная внешняя политика, новые вооружения, диверсификация экономики, национальные интересы, материнский капитал, российская модель демократии, доступное жилье, микро– и радиоэлектроника, технопарки, поддержка отечественного сельхозпроизводителя, венчурные предприятия, дороги «без канавок», внедрение результатов, компьютеризация школ, авиа– и кораблестроение, стандарты образования, системы космической навигации, рост рождаемости, лидерство в программировании, капитальный ремонт жилого фонда, опять нанотехнологии…
Детали назревающего, но еще не собранного проекта специально даны здесь россыпью – так, как они обрушиваются на обывателя. Вопрос о том, насколько выбор этих и других приоритетов обоснован и не случаен, отчасти остается открытым. Если провести аналогию с речью, то это более походит на активно пополняющийся набор слов, из которых еще не всегда складываются построенные фразы, но уже понятно, о чем разговор.
Там же, где фразы складываются, они чаще представляют собой одиночные высказывания. Для связного, логически организованного текста не хватает других необходимых высказываний, которые либо не произносятся, либо отсутствуют в понимании.
Все согласны с тем, что экономику страны надо освобождать от чрезмерной ориентации на торговлю углеводородами и прочим сырьем. Но при этом необходимы дополнительные разъяснения по ряду вопросов:
– чем именно сырьевая ориентация чревата для экономики страны, что она означает для положения страны в мире, во внешней политике, как она отражается на политике внутренней, каковы здесь главные риски и какими сценариями они описываются?
– в силу чего эти задачи ставятся именно сейчас, когда цены на нефть растут, а по некоторым прогнозам могут даже удвоиться?
– если такая необходимость все же существует, то в какой она мере актуальна, чем ее актуальность обусловлена и сколько времени нам отпущено на диверсификацию экономики?
– как именно, развитием каких отраслей и направлений, можно обеспечить такую диверсификацию реально и в необходимом объеме, а не символически; что это будет означать для самих ресурсодобывающих отраслей и для общества в целом?
– существуют ли системные факторы противодействия процессу диверсификации, какого масштаба политические усилия здесь придется предпринимать и на что можно будет опереться?
Также понятна установка на развитие науки и образования, интеллектуальной составляющей, высоких технологий. Однако и здесь формат Большого Проекта требует внятного продолжения в виде ответов на ряд вопросов, которые либо уже обсуждаются, либо рано или поздно будут поставлены:
– каковы масштабы нашего отставания в целом и по ключевым позициям, каковы реалистические сроки преодоления этого отставания?
каков (и реален ли) суммарный объем инвестиций, необходимых для того, чтобы догнать вырвавшихся вперед лидеров научно-технологического развития и далее поддерживать достойную конкуренцию?
– каковы критерии и процедуры выбора отдельных приоритетных направлений, насколько эти критерии и процедуры корректны и эффективны?
– как скоро можно ждать отдачи от этих инвестиций – начала их окупаемости?
– в какой степени и могут ли вообще выбранные направления хотя бы в первом приближении уравновесить сырьевой сектор?
– каким образом эти грядущие достижения будут осваиваться отечественной промышленностью и экономикой, большей частью совершенно к этому не готовой?
– что планируется предпринимать, если эти отечественные достижения будут гораздо эффективнее осваиваться нашими мировыми конкурентами?
Национальные проекты также в целом понятны по выбору направлений: жилье, здравоохранение, образование, сельское хозяйство. В выборе приоритетов есть своя почти неотразимая логика: людям надо что-то есть, где-то жить, учить детей и лечить больных. Но и здесь конструкция мегапроекта ставит дополнительные вопросы:
– насколько перечень этих приоритетов полон, и что будет с теми направлениями, которые в разряд национальных проектов пока не попали?
– в какой мере нынешние приоритетные проекты конечны, что будет происходить после их предполагаемого успешного завершения?
– ориентированы ли данные проекты прежде всего на то, чтобы срочно исправить положение в наиболее проблемных областях, или они также создают условия, позволяющие положению исправляться в дальнейшем уже и без государственных вливаний и накачек?
– какие стереотипы социальных ожиданий и социального поведения формирует в обществе именно такая стратегия отбора и реализации национальных проектов?
Мы также принимаем за аксиому, что люди стремятся жить свободно, в справедливо устроенном обществе, каковым является демократия. В качестве конституционной идеологемы эти утверждения безупречны и безусловны. Но выход на реализацию Большого Плана требует продолжения темы в виде ответов на более прозаические и практически значимые вопросы:
– что мы концептуально и практически намерены делать с тем, что в реальной жизни (в том числе, и в Российской Федерации) людям свойственно с не меньшим рвением стремиться к подавлению свободы, к ущемлению прав себе подобных или, наоборот, к бегству от свободы в стадную безынициативность и безответственность?
– как быть с тем, что в реальной жизни (в том числе, в России) и отдельные люди, и целые социальные группы стремятся вовсе не к справедливости, что целые системы институтов и отношений построены (и продолжают строиться!) именно на несправедливости, которую одни культивируют, а другие терпят?
– как можно оценить нынешние российские реалии по обычным критериям свободы, справедливости и демократии, причем не только на уровне «политики из телевизора», но и во всей толще властных отношений, на всех уровнях контактов граждан с представителями государства и друг с другом?
– каков в этом плане суммарный вектор изменений, происходящих в данный момент, как этот вектор вписывается в более общую траекторию политического развития России последнего времени и в целом?
– может ли считаться и быть суверенным государство, в котором повседневные отношения граждан с властью сплошь и рядом пропитаны произволом одних и бесправием других?
– чем обусловлена готовность страны к демократическому или, наоборот, недемократическому развитию: только лишь соответствующими идейно-политическими предпочтениями или же в том числе и типом экономики, доминирующим способом производства и распределения национального достояния?
Такая повестка дня, обусловленная самим форматом Большого Проекта, заметно приземляет идеологию. Правда, здесь возможна развилка. Такое «приземление» может предостеречь от срыва в безудержное мифотворчество, а может и подвигнуть на более развернутую мифологизацию действительности. Но, в любом случае, все это лучше договаривать. В идеологической работе бывают варианты, когда умолчание хуже неправды.
* * *
Уже сам перечень этих дополнительных вопросов показывает: практически в каждом из основных стратегических направлений есть, что додумывать и договаривать.
Однако подлинный масштаб проектной задачи проступает лишь тогда, когда отдельные программы начинают рассматриваться в их взаимосвязи. Эти составляющие, взятые по отдельности и даже как простая сумма – еще не мегапроект. Исторические «габариты» действия, в которое мы втягиваемся, проступают только в понимании, насколько в этих раскладах экономики, политики, технологического, социального и пр. развития все взаимоувязано, цепляется одно другое.
Экономика сырьевых продаж вовсе не нейтральна в отношении политики, перспектив демократического развития. Она тяготеет к определенным политическим конструкциям и устойчиво воспроизводит характерные типы бюрократии и повседневных властных отношений.
Экономика знания и инноваций требует существенно иных представлений о реальной демократии и повседневных практиках либерализма, другого положения граждан в системе власти, в определенном смысле – другого общества и другого государства.
Для экономики, основанной на продаже ресурсов, характерны также вполне определенные, преимущественно распределительные, экстенсивные типы социальной политики.
Такого рода социальная политика порождает соответствующие стереотипы социальных ожиданий и социального поведения, порой категорически не совместимые с задачами перехода к интенсивному инновационному развитию.
Эти стереотипы политики и социального поведения не во всем сочетаются с идеями демократии, суверенность которой утверждается не только во внешнем мире, но и прежде всего в самой стране, в подлинном, активном и повседневном народовластии, в котором свободные, экономически самостоятельные, независимые, инициативные и ответственные граждане являются носителями высшего суверенитета.
И, наконец, совершенно другой уровень амбиций нового проекта и встречных трудностей выявляется с пониманием того, что эти задачи придется решать одновременно, действуя на нескольких фронтах сразу. При этом продвижение на одном фронте будет постоянно сдерживаться отставанием, сопротивлением, а то и контратаками на соседнем участке. Ни одна из этих задач не может быть решена изолированно от других, а, значит, и «сопротивление материала» будет консолидированным, и общественное участие потребуется другого порядка, и политическая воля понадобится с гораздо большим зарядом.
Пока задачи в области идеологии, политики, экономики, социальной сферы, технологического и гуманитарного развития рассматриваются по отдельности, все они представляются трудными, иногда очень трудными, но решаемыми все же в рамках наличной общественно-политической и социально-экономической реальности. Но как только проект начинает учитывать сложные взаимосвязи и сверхсуммативные эффекты, а тем более вторгаться в эти взаимосвязи, он неизбежно покушается уже на саму эту реальность в целом. А это совсем другой уровень преобразований.
Сначала кажется, что речь идет о том, чтобы что-то, пусть существенное, но отдельное изменить в этой стране. Более развернутый анализ необходимых усилий и прогнозируемого сопротивления показывает, что для того, чтобы произвести эти изменения, необходимо изменить страну.
В такой ситуации формат мегапроекта становится востребован масштабами и глубиной назревшего реформирования. Мегапроект стране нужен.
Это плохо, но таково наше положение.
Представление о демократии как о священной корове оптимального жизнеустройства создает массу приятных ощущений, но не всегда реалистично. Утверждение, что люди стремятся жить свободно, справедливо по отношению к человекам, которые звучат гордо, но не все таковы. Более того, такое отношение к личности и правам индивида не является аксиомой для всех цивилизаций, культур, а тем более для конкретных политэкономических систем. Таковы исходные посылки постсовременной политологии и культурологии.
И наоборот, там, где демократия прочно укоренилась идеологически, институционально, в сознании и повседневных практиках, под политической моралью, ценностями и мировоззрением обнаруживается вполне прагматический фундамент – основной источник и способ производства национального достояния.
Современные демократии развитых стран – не столько отклик на человеколюбивые идеи гуманистов, сколько политическое обеспечение способа производства, требующего максимальной производительной отдачи от всех членов общества, высокого уровня их индивидуальной подготовки, быстрой адаптации к развивающимся технологиям, гибкости в перемещении людей. Национальное богатство в таких системах не выкачивается из недр, а созидается творческой инициативой и повседневным трудом населения. Здесь каждый человек нужен и стоит дорого, его берегут, его обеспечивают всеми возможными правами и исступленно охраняют его личное достоинство. Но это в том числе и дань эффективности производительных сил, а не просто самоцель.
Для экономики, замкнутой на экспорт ресурсов, наоборот, демократия необязательна (Ближний Восток, Латинская Америка). Здесь демократия, как минимум, не является безусловно оптимальной политической формой
[1].
Для такой экономики необязательна и часть населения. Нужны только те, кто обслуживает качалки, трубу, внешние продажи и внутреннее перераспределение, плюс обслуживающие этих обслуживающих. Чем меньше людей, тем богаче страна и ее «граждане». И тем легче государству
[2] Это – утрированная схема, которую каждый вправе по-своему примерять к России. Но при любых оценках необходимо учитывать, что сырьевая ориентация экономики имеет предрасположенность к тому, чтобы главным делом в обществе становилось не созидательное производство, а распределение и перераспределение со всеми их атрибутами – разрастающейся бюрократией, всепроникающей коррупцией, паразитарным бизнесом при власти.
По некоторым оценкам России хватило бы примерно двадцати миллионов «граждан» для достойного прозябания на экспорте ресурсов. На какой срок может быть обеспечено такое благополучие – вопрос отдельный. Достаточно того, что такого населения не хватит, чтобы удержать гигантскую территорию (тем более, при таком демографическом давлении с юго-востока). Маленькая нефтедобывающая страна и огромная нефтедобывающая страна – далеко не одно и то же. К тому же Россия это не один сплошной нефтеносный пласт, а архипелаг нефтедобывающих регионов. На этой территории можно удержать либо все, либо ничего. Эта территория не может сокращаться «обжатием» регионов-доноров. Достаточно появиться первым признакам эрозии, как главными кандидатами на отделение станут именно ресурсодобывающие регионы, и именно отсюда энергия распада получит самые мощные источники подкачки.
Поэтому Россия будет по возможности наращивать демографию, постоянно сталкиваясь с проблемой наращивания демократии. Трудно представить, чтобы большую часть такого большого населения можно было без последствий превратить в сборище полунищих рантье. Это путь к деградации, причем к деградации, которая может стать необратимой. И взрывоопасной, поскольку такой путь неизбежно ведет к вызывающему социальному расслоению, порождает крайне неустойчивую поляризацию общества.
Однако такие тенденции прослеживаются. Типичное положение в ряде регионов, на местах: работать негде, свое дело не открыть. Возможен «отходный промысел», например, в соседнем центре, но это уже не на этом, не на своем месте. А на своем месте главные, если не единственные возможности самореализации и самообеспечения упираются в местную бюрократию, то есть в низшие отроги вертикали распределения. Новые «рабочие» места создаются не в производственной сфере, а именно в этой системе, которая, неудержимо разрастаясь, решает, в том числе, проблемы безработицы и трудоустройства. Влиться в эту систему – большой жизненный успех.
Эти наблюдения поселкового уровня находят отзвуки и на федеральном уровне, в общенациональном масштабе. По данным ЮНЕСКО коррупция в вузах России составляет примерно 0,5 миллиарда долларов; по данным МВД – 1 миллиард. При этом лидерами взяткоемкости являются не элитные вузы ранга МГУ или МГИМО, а высшие учебные заведения, связанные с системой власти – с гражданской службой и правоохранительными органами. Это говорит о серьезном системном сдвиге. В развитых демократиях государственная служба (за исключением постов политического уровня) является уделом тех, кто не смог или не пытался реализоваться в бизнесе. При невысоких доходах главным преимуществом здесь является стабильность заработка и социальных гарантий. Это удел для тех, кто предпочитает «синицу в руках». У нас же бюрократическая карьера превращается в гарантию статуса и обогащения. Это «журавль», которого можно ухватить за лапы с чиновничьего кресла, даже не подпрыгивая. Непроизводительная сфера становится лицом общества, если не сказать, его сутью.
Такое положение является прямым следствием сырьевой экономики и характерного для нее распределительного государства. В такой системе производства и власти достоинство частного лица, как минимум, не является приоритетом. Приоритетом и «личным» достоинством здесь является, наоборот, причастность к системе, а внутри системы – к той или иной группировке, клану, стае. Вне этих отношений лицо ничего не значит (если не считать уворованного капитала и связей).
В такой системе отношений демократия нужна скорее как прикрытие или вывеска – реального, сущностного смысла она здесь не имеет.
Вместе с тем, такая система отношений у нас не является всеобъемлющей. Есть целый ряд более или менее фундаментальных факторов, не позволяющих России превратиться в большую и многоэтажную нефтеносную диктатуру или откровенно фиктивную псевдодемократию. Это и международный престиж, и потребности свободного информационного обмена (без которого в современном мире не может быть обеспечена в том числе и национальная безопасность, оборона), и увязка политических обязательств с экономическими отношениями, и целый ряд внутренних факторов, о которых ниже будет сказано отдельно. Поэтому политическое пространство России с точки зрения обеспечения в нем реальной демократии крайне неоднородно. Где-то демократия может приближаться к мировым стандартам, а где-то может отсутствовать вовсе. В этом отношении страна внутренне противоречива; здесь действуют разнонаправленные силы, и одним из факторов, не благоприятствующих демократическому развитию, является эксплуатация ресурсов и характерные для нее распределительные отношения.
* * *
Таким образом, уже в соприкосновении только этих двух, казалось бы, столь разных составляющих мегапроекта – демократии и экспорта углеводородов – становятся видны другие горизонты происходящего и предстоящего.
Может ли в современном мире быть суверенной страна, сидящая на нефтяной «игле» – тема отдельного разговора. Но то, что такая страна не предрасположена к тому, чтобы быть в полной мере демократичной, не вызывает сомнения. Поэтому преодоление ресурсодобывающей доминанты – это задача в целом ряде отношений политическая, макрополитическая. Речь идет о базисных изменениях в экономике и доминирующем способе производства, которые только и могут сделать демократию в России по-настоящему востребованной.
В противном случае наша демократия может оказаться суверенной в том смысле, что она ни на чем не базируется – и мало кому нужна.
На вопрос, куда именно мы движемся от экспорта энергоресурсов, нарождающийся мегапроект дает яркий ответ: к инновационной экономике, к наукоемким и высокотехнологичным производствам, в царство нанотехнологий. И туда, где мы на мировом уровне еще сохранили конкурентоспособность. Во всяком случае, подобный вывод вправе сделать заинтересованный, читающий наблюдатель.
Такое решение напрашивается. Мы сами не всегда внимательны к собственному потенциалу, хотя в мире считается, что у России два главных ресурса – природный и интеллектуальный. Страна богата полезными ископаемыми, но в ней еще остались и другие не менее полезные «ископаемые» – хорошо образованные, креативные люди, способные решать сложнейшие задачи и генерировать уникальные идеи. Причем не только на передовых рубежах науки, но и в повседневной практике. Во всяком случае, и российский бизнес, и новая общественно-политическая инфраструктура, возродившиеся в ходе реформ за считанные годы почти из ничего, своими кадрами во многом обязаны именно советской системе образования и советской науке, «внутренней утечке мозгов».
Однако нельзя не признать, что приоритеты инновационных программ, высоких технологий и т.п. большей частью представляют собой проекты негарантированных прорывов. Это нормально в своих пределах, но этого явно недостаточно для решения вышеозначенных стратегических задач, как они формулируются на уровне мегапроекта. Такие прорывы и не могут быть стопроцентно гарантированными (иначе остановятся и фундаментальная наука, и перспективные, но рискованные прикладные разработки), но при этом желательно, во-первых, чтобы не было гарантированных провалов, а во-вторых, чтобы политические ставки были соразмерны ожидаемым результатам.
Прежде всего, необходимо заранее признать, что в нашем положении высокие технологии, наукоемкие производства и т.п. в обозримое время не станут тем противовесом, который смог бы сбалансировать экономику сырьевых продаж. Это не реально ни по обороту, ни, тем более, по срокам, отпущенным нам на то, чтобы сделать процесс диверсификации экономики ощутимым.
Сходные проблемы возникают в связи с необходимостью решения вышеописанных задач социально-политического характера.
Высокие технологии, наукоемкие производства, да и сама экономика знания в нашем положении могут иметь лишь ограниченную социальную базу. Проблем, связанных с непричастностью значительной части населения к получению основной составляющей национального достояния, это направление не решает. Более того, результат здесь может быть неоднозначным. Огромная страна, граждане которой слабо востребованы как опора национальной экономики и процветания, может оказаться сторонним наблюдателем всех этих слишком высоких и слишком малых технологий. Наблюдателем восторженным – или озлобленным. Особенно если авансы по части научно-технологических прорывов не оправдаются или оправдаются лишь в малой степени.
Соответственно, мало что изменится и в плане формирования того социально-экономического базиса, который, как выясняется, необходим для укоренения подлинной демократии. Если вернуться к общей конструкции мегапроекта, становится видно, что переход от избыточной роли экспорта энергоносителей к инновационной и т.п. экономике где-то в середине нехорошо зависает. И зависает он прямо под суверенной демократией. Если к нефти с другого бока страны прибавятся нанотехнологии, это не сделает большинство граждан такой же производительной ценностью для Родины, как нефтяные насосы или нанороботы. А значит – не будет демократизации экономики и «экономизации» демократии.
* * *
Вышесказанное приобретает особый смысл в связи с тем, что в оценке наших инновационных возможностей сейчас нужна повышенная трезвость.
Современная наука, особенно на передовых ее рубежах, стоит безумно дорого, на порядки дороже, чем во времена СССР. При этом торг здесь неуместен: она стоит ровно столько, сколько стоит, не меньше. И оборудования она требует именно такого, какого требует, не иного. Недофинансирование чревато тем, что средства будут потрачены впустую (если не считать повышения уровня благосостояния организаторов и отдельных исполнителей этих проектов). Что же до собственно результата, мы рискуем получить не новый прибор, а табуретку от него, к тому же непомерно дорогую и в быту неудобную. Поэтому самые крупные проекты в современной науке реализуются на основе международного финансирования, мировой «складчиной». В любом случае будет странно, если суверенная российская наука сама возьмется решать эпохальные проблемы, которые в мире решаются сообща, корпоративно. С этой точки зрения расчет действительно перспективных проектов составляет отдельную, в том числе научную проблему. Для нас же еще большую проблему представляет запуск не директивных, а саморегулируемых, самонастраивающихся механизмов отбора перспективных направлений. Это крайне необходимо, чтобы снизить субъективность и лоббирование при организации сверхкрупных научно-технологических проектов и, соответственно сократить пространство «откатов».
Ориентировочной моделью взаимодействия науки и экономики может служить широко применяемая в мире система долгосрочных и краткосрочных проектов. Как правило, в рамках международных долгосрочных программ финансируются особо дорогостоящие фундаментальные исследования, например, в области ядерной физики, физики высоких энергий, космологических исследований, наук биомедицинского цикла, ряда проблем подобного масштаба в других отраслях знания.
Далее в рамках краткосрочных проектов финансируются исследования фундаментальных основ тех или иных явлений с прицелом на возможное применение. Существует система как национальных, так и международных проектов такого рода. Длительность таких проектов, как правило, 2–3 года. В зависимости от масштаба проблемы и исследований может организовываться последовательная серия проектов в том или ином направлении, но суммарный срок редко превышает 6-10 лет. Далее финансирование из бюджетных источников прекращается. Работы могут быть продолжены только в случае проявления заинтересованности со стороны бизнеса. В этом случае либо организуются проекты на средства корпораций, либо исследования перемещаются в корпоративные исследовательские подразделения, где концентрируются громадные средства, интеллектуальные, организационные и технологические ресурсы. Если такой интерес бизнесом не проявлен, исследования переключаются на другие направления. На какие именно, решается в ходе широкого обсуждения среди специалистов разных направлений и на конкурсной основе. Перегибы и групповщина случаются и в этой системе, но в целом она достаточно эффективна. Залог ее эффективности в главном принципе: государство само ничего не внедряет и не организует новых экономик. Максимум, что оно может делать, это создавать режимы благоприятствования на начальных этапах развития того или иного перспективного направления.
Однако для того, чтобы такая система работала, нужна соответствующая экономика и адекватная производственная база, которая могла бы подхватить инновационные проекты.
* * *
Чтобы выяснить, как у нас обстоит дело с возможностью такого «подхвата», двинемся теперь в обратную сторону: от прорывных технологий назад, в страну, остающуюся в тылу этого прорыва, в ту пока еще невнятную «середину» мегапроекта, которая еще только начинает проявляться.
Тут же обнаруживается, что затеваемый технологический прорыв сам начинает опасно зависать. Авангард оказывается оторванным от обозов. Более того, встает вопрос, а есть ли вообще в России тылы, которые могли бы поддержать этот прорыв?
Это наша старая проблема.
Знаменитый АКМ с таким успехом продавался в мире лишь потому, что был не только лучшим, но и предельно простым. Но сложная техника, даже будучи лучшей по качеству, сплошь и рядом уступала конкурентам из-за отсутствия культуры сопровождения и нормальной инфраструктуры обслуживания.
В СССР была не просто передовая наука, но и «полный научный комплекс» – явление в истории почти уникальное. Однако открытия и изобретения большей частью оказывались невостребованными. Так называемая проблема внедрения бесконечно решалась, так решена и не была, а самое главное, не могла быть решена в принципе. Страна отчаянно боролась с консерваторами, препятствующими внедрению нового и передового, тогда как проблема была совершенно иного порядка: внедрять было просто не во что. Не было экономики, жизненно заинтересованной в инновациях и способной эти инновации оперативно осваивать, но не было и той производственно-технологической среды, которая необходима, чтобы любые изобретения могли бы быть освоены чисто физически. Поэтому любой прорыв неизбежно оборачивался отрывом и беспомощным зависанием. В лучшем случае доходило до небольших серий – о выходе новаций в массовое производство речи не было.
При этом наши открытия и изобретения непринужденно и очень эффективно осваивались за рубежом. А потом страна покупала за валюту то, у истоков чего стояли ее же умы.
Как уже отмечалось, современная наука обходится на порядки дороже, чем раньше. Тем более правомерен вопрос: появилось ли в России, в сравнении с СССР, что-то новое, что давало бы надежду миновать судьбу советских открытий?
В 1964 г. Басов и Прохоров получили Нобелевскую премию «За основополагающую работу в области квантовой электроники, позволившую создать генераторы и усилители, основанные на принципе мазера и лазера». До сих пор мы копируем единичные технологические лазеры с западных моделей, а в основном закупаем их за рубежом.
Понимание этой проблемы есть. Теперь вновь на повестку дня в качестве одного из наиболее актуальных ставится вопрос о «внедрении результатов». Наука обрастает относительно свежими словами: «технопарки», «инкубаторы», «посевные», «венчурные предприятия»… Обсуждаются возможности решения проблем с авторским правом, с «обремененной» приватизацией разработчиками результатов, полученных за бюджетные средства. Но даже если все это образуется во плоти и в полном объеме, проблема зависающего авангарда не решится, пока у нас не появится экономики, ориентированной на инновации, соответствующей производственной базы и технологической культуры. А значит, наша наука и далее будет, опережая наших конкурентов, их же кормить своими разработками. И поддерживать закупкой технологических результатов не только зарубежный бизнес, но и зарубежную науку.
Таков закономерный результат «суверенного» знания, оторванного от производственно-технологического базиса. А это уже проблема совершенно другого уровня. Культуры производства не бывает в изолированных заповедниках научно-технического прогресса. Она либо есть в стране – либо ее нет вовсе. А если ее нет, то и практические нанотехнологии, и другие подобные направления постигнет судьба большинства наших прошлых достижений.
То же с инновациями. Надежных инновационных прорывов не будет в обществе, в котором даже устаревшая бытовая техника является новшеством для национальной системы технического регулирования: заскорузлой нормативной базы, режимов допуска на рынок, государственного контроля и надзора, архаичной и взяткоемкой системы стандартизации.
Десанты в будущее там же и погибнут, если не будет глубоких изменений в самом простом, повседневном и массовом.
Вселяет надежду лишь то, что это те же самые изменения, которые необходимы, чтобы демократия в России стала не формальной, а реально востребованной политической конструкцией.
Как уже отмечалось, одной из ключевых составляющих мегапроекта является социальная политика. Причем если остальные направления еще могут в том или ином виде обсуждаться с точки зрения меры их актуальности, то острейшая необходимость решения целого ряда социальных проблем обсуждению не подлежит. Хотя бы потому, что такие важнейшие составляющие уровня жизни, как качество питания, обеспеченность жильем, медицинское обслуживание, положение в школе и на селе находятся у нас во многих отношениях на запредельно низком уровне.
Наиболее читаемым проявлением социальной политики на данный момент являются приоритетные национальные проекты. Необходимо подчеркнуть, что эти проекты (независимо от реальной ориентации каждого из них) воспринимаются именно как социальные, как государственное вспомоществование, как доступная на данный момент форма объявленного «сбережения народа».
Источник распределяемого ресурса понимается столь же однозначно – доходы от продаж энергоносителей в условиях высоких цен на нефть. Ясно, что переложить хотя бы часть этого груза на высокие технологии сразу не получится. С какого момента инновации начнут окупаться, а тем более уравновешивать экспорт ресурсов – вопрос открытый. Поэтому в вышеописанной схеме мегапроекта, по всем законам политики, нижняя и левая части тяготеют друг к другу.
В рамках реализации собственно социальных программ вопрос об источниках распределяемых ресурсов не ставится, да и не должен ставиться. Однако при этом необходимо держать в поле зрения, что такая социальная политика может быть относительно успешной, только пока нынешние источники ресурсов исправно работают. Например, пока цены на нефть высоки и растут.
Соответственно, должно быть понятно, что все риски, связанные с такими источниками ресурсов перекладываются и на социальные программы, и на социальную политику в целом, становятся их рисками. Именно это мы наблюдали в конце 80-х гг., когда спад цен на нефть практически обрушил социальную сферу в СССР, вплоть до обеспечения продуктами повседневного спроса, со всеми вытекающими последствиями сначала для текущей политики, а затем и для большой политики, геополитики и всемирной истории.
С этим напрямую связана другая особенность такого рода проектов. Они могут быть ориентированы исключительно на распределение или прямое применение ресурса. Но они также могут ориентировать использование данного ресурса в том числе и на то, чтобы запустить или интенсифицировать процессы, позволяющие в дальнейшем решать социальные проблемы с меньшей нагрузкой на бюджет, на эксплуатацию природных запасов и т.п.
В этом плане социальную политику всегда целесообразно рассматривать с «растяжкой» на несколько поколений. Например, когда страна берет иностранный кредит, считается, что кредитором является та страна, которая дает заем. Но с не меньшим правом можно утверждать, что кредитором в данном случае является будущее поколение страны-заемщика, которому эти долги придется отдавать. Ситуация тем более щекотливая, что согласия этих будущих поколений никто не спрашивает и спросить в принципе не может.
То же можно утверждать относительно расходования природных ресурсов. Еще Менделеев высказывался по поводу природных энергоносителей: лучше топить ассигнациями, чем сжигать ценное химическое сырье. Возможность использовать углеводородное сырье не только как топливо учитывается странами, которые считают необходимым и могут себе позволить думать о будущем в несколько более отдаленной и ответственной перспективе.
Как бы там ни было, в горизонте мегапроекта приходится учитывать, что социальные программы, реализуемые для нынешних поколений, также являются программами в отношении поколений будущих, причем ближайших. Иногда кажется, что мы всего лишь перераспределяем ресурс в социальном пространстве, между сырьевиками, государством и остальным обществом, хотя на самом деле мы занимаемся в том числе и перераспределением этого ресурса между поколениями, соседствующими во времени. Формат мегапроекта предполагает более широкий охват не только тематически, но и в горизонтах планирования.
* * *
Однако национальные проекты – лишь верхний пласт социальной опеки. Уровнями ниже наша демократия становится все сувереннее от народа, а в повседневных контактах с властью приобретает и вовсе суровые черты.
Характерный пример: чтобы оформить мизерное повышение пенсии, от пожилой женщины каждый раз (примерно раз в год) требуют возобновлять справку о том, что ее муж действительно умер. Умер он десять лет назад, на что тем же государством выдано официальное свидетельство. Многие отказываются от оформления этих прибавок только из-за их оскорбительной формы.
Разговор в слишком высоких горизонтах иногда полезно резко опускать «на землю». Образы власти, спускаемые сверху, могут излучать заботу и силу, но подлинная природа государства обнажается в том, как оно обращается со слабыми и больными. Это и моральная сентенция – и строгий научный метод, результаты которого можно экстраполировать. Поэтому когда дачная амнистия вместо «одного окна» оборачивается «еще одним окном», это результат прогнозируемый и по-своему нормальный, даже если он создает еще одну категорию униженных и обманутых.
Административные меры против такого бессильны, пока вертикаль власти распределяет природную ренту, а не обслуживает созидающее население.
* * *
Социальная политика в чем-то напоминает земледелие, которое, как известно, может быть «интенсивным» или «экстенсивным». Это принципиально разные стратегии: либо государство принимает на себя основную массу социальных расходов – либо оно создает для граждан максимум благоприятных условий для самостоятельного решения социальных проблем.
Эти стратегии в синхронном срезе, то есть в каждый конкретный момент времени, могут так или иначе сочетаться. Однако в диахронии, в тенденции приходится делать выбор на перспективу.
А перспектива такова, что достигнутый на данный момент уровень социальной защиты (каким бы низким он ни казался) в целом может быть обеспечен только при благоприятной нефтяной конъюнктуре. Дело даже не в том, что нефтяные деньги напрямую расходуются на социальные программы. В случае снижения, а тем более обвала цен на углеводороды произойдет резкое сжатие того сектора экономики, который так или иные завязан на нефтяные деньги. Будут сокращаться не только нефтяные, но и другие бизнесы (например, в сфере услуг), отчисления от которых поддерживают социальные программы.
Поэтому в социальной политике необходим превентивный, опережающий переход от экстенсивного земледелия к интенсивному. Пенсионная реформа такие возможности закладывает. Осталось дать гражданам возможность с минимумом проблем соответствующим образом зарабатывать – а с этим как раз и наибольшие проблемы.
В этом плане идея «сбережения народа», при всем ее человеколюбии, нуждается в пояснениях. В этой словесной конструкции народ является чем-то страдательным, как синтаксически, так и по жизни. Предполагается наличие некоей инстанции, которая будет народ сберегать. В этой констатации нет никакой иронии: ситуация именно такова, и делать это необходимо. Но если иметь в виду стратегическую перспективу, то надо иметь в виду, что нельзя заниматься сбережением народа до бесконечности. Цель социальной политики – дать народу возможность самому выйти из режима сбережения в режим нормального самообеспечения, а затем и процветания. А для этого необходима стратегия сбережения народа от всего, что ему в этом плане мешает, в том числе – и от многих нездоровых наростов государства.
Здесь социальная политика естественным образом переходит в политику экономическую: элементы унижения и бесправия в бизнесе мало чем отличаются от аналогичных проблем в социальной сфере.
Если вновь вернуться к общей схеме мегапроекта, мы обнаружим, что основные акценты пока расположены в нем как бы по периметру.
С одного фланга экспортируются энергоносители, и чем успешнее это делается, тем менее значимым становится все остальное, включая людей и деятельность.
На противоположном фланге проектируются научно-технологические прорывы, которые также для большинства рядовых граждан в лучшем случае могут стать предметом национальной гордости, но не прямого или хотя бы опосредованного участия.
Социальные проекты также имеют вполне определенную – конкретную и адресную направленность, решают прежде всего приоритетные задачи, которые, естественно, не исчерпывают всего содержания социальной стратегии.
Наконец, и сама суверенная демократия уже парит над страной, осеняя ее своими либеральными и социал-демократическими крылами, но пока еще не имеет надежного продолжения в экономическом и производственном базисе, а значит, и в повседневных практиках, в самой «микрофизике власти».
В каждой из сторон этого активного периметра есть свой проект, и уже примерно понятно, что делать. Но пока не очень понятно, что происходит и что планируется делать внутри этого периметра, в той середине, которая в активную зону мегапроекта до сих пор не включена.
Вместе с тем, эта середина для мегапроекта особенно интересна, как минимум, по двум причинам.
Во-первых, это – повседневная жизнь и работа заведомо большей части населения страны. А значит, это то, ради чего все делается и на чем все должно базироваться.
Во-вторых, это та самая зона переходов и связей, которая только и может объединить проекты периметра: обеспечить переход от экономики экспорта ресурсов к экономике знания, связать политический и социальный проекты, гармонизировать политическую и экономическую составляющие.
Эта середина обделена нашим проектным вниманием не потому, что мы так проектируем. Мы так проектируем, потому что эта середина пока заведомо вторична по жизни. Но если мы хотим, чтобы страна жила тем, что она производит, а не выкачивает из недр, чтобы демократия была не упаковкой, а реальным условием именно такого способа существования, чтобы не государство обеспечивало людей, а чтобы люди без лишних проблем обеспечивали и себя, и государство – тогда необходимо кардинально менять акценты и всерьез заниматься тем, что до сих пор казалось пассивным и неинтересным.
* * *
Эту зону пассивной неопределенности, в свою очередь, можно разобрать по трем составляющим: люди, вещи, отношения.
В человеческом плане в эту зону попадает все то население Российской Федерации, которое не имеет прямого отношения к нефти и газу, высоким технологиям, обеспечению суверенитета и к приоритетам социальной поддержки. (Точнее, всех это так или иначе касается, но скорее в качестве пассивных потребителей и наблюдателей, а не активных участников событий, у которых есть шанс стать эпохальными).
Точно так же, как в этом проекте отсутствует огромная масса людей, здесь нет и огромной массы вещей. Достаточно каждому оглядеться вокруг себя, вспомнить полки магазинов. Все есть, но почти все это – не нами произведенное. Телевизоры, аудио– и видеоаппаратура, бытовые приборы, газовые и электроплиты, стационарные и мобильные телефоны, средства связи, офисное оборудование, серьезные компьютеры и периферия, простые и электрические зубные щетки, осветительная аппаратура, измерительное оборудование, колесные диски и автомобильные аксессуары, шариковые и перьевые ручки, утюги, хорошие зажигалки, приличные очки, пылесосы, холодильники, увлажнители, кондиционеры, сантехника, приборчики для измерения артериального давления, основная масса посуды, садовый инвентарь, инструменты рабочие и инструменты музыкальные, цифровые фото– и киноаппараты, наконец, вся рыболовная амуниция – катушки и «палки», блесны и воблеры, крючки и лески…
Каждый обыватель может от себя расширить этот список, а каждый специалист – добавить в него куда более серьезные виды жизненно необходимой стране массовой продукции.
Этот провал не является сплошным, но пока все же исключения здесь скорее подтверждают общее правило. А это значит, что в стране не просто нет или почти нет множества собственных вещей; это значит, что в ней нет соответствующих секторов реальной экономики, массовых производств, проектов и разработок, методик и технологий, специалистов и навыков, систем обучения, рабочих мест и оснастки, наконец, культуры, которая позволяла бы производить все это в массовом порядке. Чем занимается огромная и не вполне отсталая страна, если не этим, в принципе понятно, но это понимание оптимизма не внушает.
Это значит также, что все эти вещи у нас есть только до тех пор, пока нефтяные деньги позволяют их покупать.
Возможны разные объяснения сложившейся ситуации. Или мы все это производить в принципе можем, но не хотим, потому что нам это не нужно: проще хоронить своих покойников (безнадежно отставшие производства) и закупать все подряд за рубежом в рамках удобного международного разделения труда. Или мы производить это уже толком не можем (хотя и заинтересованы в таких производствах стратегически), но не пытаемся восстановить утраченные возможности, поскольку этому мешает существующая система взглядов и их реальных воплощений, в которой все это вторично и необязательно – и люди, и вещи, да и сами отношения в этой сфере.
* * *
Как уже отмечалось, здесь все неоднородно. За исключением уехавших и спившихся, остальные работают и немало производят. Но ставка в стратегии национального развития делается не на них, причем как в нефтяном настоящем, так и в инновационном будущем. Все также полагается, что в главном богатство, сила и независимость страны обеспечиваются не здесь, что процветание и суверенитет нации можно обеспечить новыми прорывами, а не налаживанием экономической рутины, обустройством массовых производств и самых банальных видов деятельности.
Мы все также рассчитываем на то, чтобы «качнуть» либо недра, либо собственные гениальные мозги, но недостаточно думаем о том, как занять мозги и руки тех, у кого они есть, но кто не может их с толком приложить. Все также считается, что можно успешно осваивать и внедрять новейшие и высочайшие технологии в стране, если в ней не производят ручек, которые не текут, зажигалок, которые зажигаются, и автомобилей, которые своим ходом доезжают от цеха до салона.
Еще раз: нельзя сказать, что реальная экономика (в том числе реальная микроэкономика) у нас вовсе отсутствует. Но пока она не входит основным звеном в систему жизнеобеспечения и в стратегические планы государства, отношение и к самой этой деятельности, и к людям в этой сфере остается и будет оставаться не вполне адекватным.
* * *
В этой схеме подвисает не только демократия, но и другие конституционные свободы. Прежде всего – закрепленное в Конституции право граждан на свободную предпринимательскую деятельность.
Это право может быть реальным, только если сама эта деятельность нужна государству. Если же она государству не нужна, то право на деловую активность из конституционной свободы превращается в еще один распределяемый сверху ресурс. Государство не ощущает себя обязанным гражданам за то, что те работают и производят что-то такое, что можно и так купить по соседству. Наоборот, граждане оказываются обязанными государству за то, что оно иногда дает им возможность что-то делать.
Логика производства опять подменяется логикой распределения, только на этот раз – распределения возможности работать. Право на предпринимательскую деятельность оборачивается еще одним спускаемым сверху вспомоществованием – подачкой активным, пенсией молодым, пособием по трудоспособности. Низовая власть распределяет эту возможность делать дело снисходительно, иногда грубо и всегда не задаром. Кроме того, если пенсию или пособие переоформляют не каждый день, то право на дело выкупается регулярно, в ходе каждой проверки или перерегистрации.
В результате здесь прослеживается тот же стиль отношений, что и в социальной сфере. Социальный работник, переоформляющий пенсии, не ощущает себя обслуживающим персоналом по отношению к человеку, который свою пенсию заработал всей своей честной трудовой жизнью. Чиновник (в собирательном смысле этого слова, как локальное воплощение государства) полагает, что эта пенсия заработана скорее морально, более стажем, чем результатами труда. Он не без оснований подозревает, что пенсионные фонды наполняются из других источников. Поэтому он ощущает себя не мелким клерком, а Рукой Дающего. И в этих своих мелких амбициях он лишь оформляет позицию государства, обычно выражаемую более корректно, но близкую по сути.
Поэтому, если подняться из социальной сферы в зону реальной экономики, здесь обнаружатся те же сростки произвола и бесправия. Когда одна занимающаяся предпринимательством дама в разговоре с инспектором только упомянула закон «О защите прав юридических лиц…», ее тут же поставили на место: «Еще слово – и все будет в два раза дороже». Это было сказано без вызова, почти по-доброму, но неотразимо.
В этом эпизоде – сама суть отношений с властью в той самой «середине», которая представлена деловой активностью малого, среднего и не самого крупного бизнеса, а также совокупностью бюджетных и некоммерческих организаций. То есть – в стране. За свою работу люди не ждут от государства ни благодарности, ни помощи, ни хотя бы нейтралитета. Наоборот, власть ждет благодарности от работающих – и регулярно получает ее.
Перспектива таких отношений отрезает от предпринимательской активности целые категории граждан, не готовых терпеть унижения и вступать в неформальные связи с представителями власти. Многие в бизнес просто не идут, многие приходят – и тут же уходят, поняв, что здесь есть нечто обязательное, через что они не в состоянии переступить. Можно по-разному оценивать масштабы этой внешней и внутренней эмиграции, но в активной зоне страна теряет человеческое качество.
* * *
Проблемы «середины» – это не только проблемы существующего положения. Это также проблемы намеченных стратегических переходов.
Нельзя перепрыгнуть из ресурсодобывающего прошлого и настоящего в инновационное будущее, игнорируя массовые практики. В современных обществах именно здесь формируется культура производства, проектирования, менеджмента, обслуживания и прочих отношений.
Это общее правило: костюм начинается с ботинок, театр с вешалки, хорошие манеры – с умения сморкаться не в скатерть. Когда ломается автомобиль, поломку ищут, идя от простого к сложному. Все понимают, что если нет «искры», автомобиль не поедет, даже если к нему приделать спутниковый навигатор. Но иногда полагают, что со страной бывает иначе.
Принцип прорыва (ленинское «ухватить за звено и вытянуть всю цепь») не лучший способ для работы с мегапроектами. Особенно в рамках постсовременной парадигмы, в которой внимание к рутине, к повседневному и обыденному, к деталям, к малому и «второстепенному» является определяющим.
И тем более это важно для России, на фоне экспорта ресурсов стремительно утрачивающей эту и без того бывшую для нас проблемной культуру деталей и повседневного.
Если это учесть, становится понятным, почему у нас никак не может состыковаться переход от экономики продажи ресурсов к экономике знания. Если в стране нет достаточного пласта массовых производств, в ней не будет производственной культуры, которая позволяла бы адекватно воплотить в образцах и эффективно реализовать научные результаты. Но даже если такие образцы будут созданы, им негде будет найти применение. Проще говоря, без массовых производств высокие технологии, во-первых, невозможны, а во-вторых, не нужны.
Также становится понятным, почему в нашем мегапроекте некоторые установки суверенной демократии, с одной стороны, и экономической и социальной политики, с другой стороны, никак не могут встретиться.
Термин «реальная экономика» в последнее время становится все более востребованным. Однако остаются недостаточно проясненными, как минимум, три аспекта:
– что именно входит в это понятие, каково его конкретное содержание, причем не вообще, а прежде всего в контексте главных проблем, стоящих сейчас перед страной?
– каковы критерии, позволяющие относить тот или иной сектор экономики к разряду реальных?
– как именно предполагается обеспечивать смещение акцентов в сторону реальной экономики, а затем и полноценную ее диверсификацию?
В нашем контексте продуктивнее понимать под реальным сектором то, что предполагает превалирование в стоимости продукта овеществленного знания, умения и труда. Соответственно, на общенациональном уровне говорить о наличии в стране реальной экономики можно в том и только в том случае, если ее национальное достояние в значимой степени обеспечивается производительным трудом большинства трудоспособного населения.
Нестрого говоря, реальная экономика – это все, что развивается между экспортом ресурсов и околонаучным хай-теком. В контексте основных стоящих перед Россией проблем продуктивнее рассматривать реальную экономику прежде всего в аспекте несырьевого сектора
[3] В этом подходе принципиально важно также слово «все». О поднятии в России реальной экономики необходимо говорить именно в целом, не как об отдельных проектах, а как о явлении, причем как о явлении экономического, социального, а в известном смысле и политического характера.
Здесь, естественно, останутся сильные и по-своему романтические приоритеты, такие как строительство кораблей или аэропланов. Однако Россия с такими задачами всегда более или менее справлялась. Для нас, как правило, проблему составляло другое. Нам легче раз в полгода совершать невозможное, чем каждый день делать более или менее простое, но приличное по качеству. Поэтому символом России и являются, с одной стороны подкованные блохи и «Бураны», а с другой – весь наш автопром с его своеобразным дизайном и качеством.
В разговоре о реальной экономике принципиальной оказывается разница между уникальным, серийным и массовым производством. Причем для России это проблема, без преувеличения, историческая.
В истории России было и уникальное, и непревзойденные серии, но практически не было мирного массового производства рыночного типа. Точнее так: было, но слишком мало.
После революции аграрная страна пережила форсированную и во многом насильственную урбанизацию и индустриализацию. И милитаризацию. Дело не только в том, что промышленность Союза большей частью работала на войну. По военному образцу было организовано и мирное производство. Качество здесь не диктовалось спросом и конкуренцией, а вышибалось из-под палки, ГОСТами и госконтролем. Делать качественно массовую продукцию в массовой номенклатуре не из-под палки, не строем, а ради обеспечения негарантированного сбыта мы еще только учимся, причем по историческим меркам совсем недолго. А главное, ранее мы этому еще никогда в своей истории толком не учились. Это – большой исторический провал. Но его масштабы, значение и последствия пока недооцениваются.
Одновременно с этим плохо учитываются экономические, социальные и даже политические последствия нерешенности этой задачи на настоящем этапе. В условиях демилитаризованной экономики без массовой производственной среды начинает деградировать и малосерийное, а отчасти и уникальное. Это как в футболе: чем меньше дворов, в которых мальчишки гоняют мячи, тем больше в сборной легионеров
[4] Здесь мы плавно переходим от качества вещей к качеству человеческого материала.
Экономика, в которой доминирует экспорт ресурсов и, соответственно, перераспределение, снижает квалификацию производящего звена. Люди уходят в систему распределения, в торговлю и обслугу. Но эти сектора деятельности развиваются или сохраняются в достигнутом объеме, только пока есть платежеспособный спрос, а спрос этот в значительной мере обеспечивается перераспределением доходов от экспорта ресурсов. Стоит этим доходам снизиться, как упадет и спрос. В системе распределения и перераспределения окажется много «лишних» предприятий и людей, которые вряд ли смогут в одночасье вернуться в реальную экономику, поскольку здесь требуются и навыки, и несколько иная психология, наконец, просто обустроенные рабочие места.
* * *
Здесь возникает закономерный вопрос: что именно сдерживает запуск и развитие реальной, прежде всего несырьевой экономики в России?
Самый простой ответ – реальная экономика не очень нужна, если основные потребности страны удовлетворяются за счет экспорта ресурсов. Или в более аккуратной формулировке: реальная экономика развивается только в той мере, в какой потребности страны экспортом ресурсов не полностью покрываются.
В этом много правды, но далеко не вся. Экономика перераспределения порождает свою среду, в ней формируются особого рода отношения, практики, бизнесы и организационные структуры, которым свойственно выдавливать реальную экономику даже на том поле, на котором она могла бы быть востребованной. В той мере, в какой распределительная бюрократия входит в режим расширенного воспроизводства самое себя, она начинает паразитировать не только на распределении, но и на производительной сфере. Сырьевая экономика не просто замещает, но во многом еще и губит экономику несырьевую.
В производительной сфере такое паразитирование сказывается гораздо более пагубно, чем, например, на экспорте энергоносителей. Сфера производства существует в режиме куда меньших прибылей и куда более тонких экономических настроек, чем сфера ресурсопотребления. Здесь, как правило, очень близка грань, за которой производство становится экономически нецелесообразным, неконкурентоспособным и т.п.
Есть много обстоятельств, в силу которых в России не производится огромное множество видов самой разнообразной продукции, ввозимой из-за рубежа. Эти обстоятельства можно разделить на две основные группы:
– страна уже просто не в состоянии это производить – либо вообще, либо на конкурентном уровне;
– стране это пока еще делать могла бы, но ей этого делать не дают, причем не внешние недоброжелатели, а внутренние регуляторы, не позволяющие выйти на конкурентный уровень даже той российской продукции, которая могла бы соревноваться с зарубежными аналогами по показателям «цена – качество».
Относительно нашей способности или неспособности производить те или иные виды продукции трудно говорить однозначно. Однако основные моменты можно зафиксировать.
1. В целом в стране на данный момент отсутствует реальная экономика в той мере, в какой ее необходимость диктуется потребностями социально-экономического и общественно-политического развития общества, геостратегическим контекстом, задачами обеспечения суверенитета и безопасности, предотвращения системных кризисов в случае изменения энергетической конъюнктуры. Это означает, что наше положение, а в критических раскладах и судьба, зависят не от нас самих, а от доставшейся нам территории и от мирового спроса на ее природные богатства
[5] 2. Поле реальной экономики крайне неоднородно. Оно неоднородно в отраслевом пространстве: в одних направлениях что-то позитивное происходит, начинает происходить – в других, наоборот, целые отрасли приближаются к грани исчезновения, исчезают или уже исчезли, некоторые – на обозримое время необратимо.
3. Суммарный вектор изменений неутешителен: доля вклада сырьевых отраслей в ВВП немного, но растет (хотя в основном за счет цены). Остальной рост обеспечивается прежде всего за счет сферы услуг (в широком смысле слова), что также порождено прежде всего спросом, базирующемся на перераспределении доходов от сырьевых продаж. Доля несырьевого сектора снижается.
4. Независимо от абсолютных темпов роста или сжатия несырьевого сектора, приходится признать, что в относительном измерении он теряет мировую конкурентоспособность, причем даже в сравнении с азиатской «молодежью». Мы не просто плохо движемся сами – мы еще и постоянно увеличиваем отставание от тех, кто движется хорошо.
5. Программы экономических мер по запуску и развитию несырьевого сектора существуют, причем достаточно обоснованные и детализированные. Однако эти программы:
– во-первых, лишь в некоторой, пока еще не большой степени влияют на программы и реальную экономическую политику Правительства;
– во-вторых, включены в политический проект как одна из его составляющих, но включены при этом как именно экономическая составляющая, собственный политический срез которой пока не проявлен.
Хотя, похоже, в этом дело.
* * *
Точно так же, как политической демократии требуется базис в виде массового производства, делающего людей столь же реальной ценностью, для реальной экономики необходима демократия, обустраивающая все этажи, всю толщу взаимоотношений человека и власти, граждан и государства, в том числе его экономическую деятельность и среду повседневных отношений.
Этот общий и красивый принцип тут же выводит нас на вполне конкретные и не всегда красивые проблемы.
Как уже отмечалось, перечень конкретных финансово-экономических мер по запуску и поддержке несырьевого сектора в целом проработан
[6] Для финансового блока такой констатации в принципе достаточно, чтобы приостановить процесс «до лучших времен». От экономического блока требуются дополнительные пояснения: когда именно, в результате каких действий и по достижении какого состояния можно будет начать принятие массированных мер по диверсификации экономики, по запуску и поддержке несырьевого сектора.
На эту проблему также можно смотреть с разных сторон. Пока государство полагает, что эти средства разворовываются у него, и рассчитывает прежде всего на государственные же инструменты сокращения этих потерь, проблема и дальше будет оставаться не решаемой.
Если же исходить из того, что эти средства разворовываются у тех, кому они предназначены, то логично отдать приоритет в решении этой проблемы, во-первых, общественности, а во-вторых, сокращению и упорядочению присутствия государства в экономических процессах.
При этом надо учитывать, что разворовывание инвестируемых в экономику средств имеет два основных этапа. Эти средства существенно сокращаются в объеме до того, как доходят до получателей. Но они продолжают расходоваться не по назначению и после этого – и во время производства, и даже после получения прибыли. Дело в том, что бизнес обложен административной рентой как таковой, независимо от наличия или отсутствия инвестиционных и прочих программ. Даже если снижение налогов, целевые налоговые льготы, инвестиционные проекты и пр. дадут эффект, этот эффект будет существенно снижен, а то и вовсе сведен к нулю. Прибыль далеко не в полном объеме окажется реинвестированной в экономику, но в значительной мере будет потрачена на оплату все той же административной ренты. А у нашей административной ренты запросы, как известно, весьма эластичные, не ограниченные ничем, кроме платежеспособности бизнеса и прочих агентов деятельности.
Здесь кроется ответ на второй принципиальный для судеб нашей реальной экономики вопрос: в какой мере запускать конкурентоспособные несырьевые производства наши предприниматели не могут сами, а в какой мере им еще и мешают, иногда просто не дают этого делать?
Известно, что трансакционные издержки составляют в среднем примерно 10%. При этом надо учитывать, что эти издержки не ограничиваются каждым из отдельных бизнесов, а накапливаются по всей цепочке так называемых «переделов». Проще говоря, производитель, например, станка закладывает в его цену не только свои собственные, непосредственные затраты на административную ренту, но и затраты всех своих предшественников по технологическому процессу – тех, кто добывал руду, делал металл, комплектующие, все это транспортировал и т.д. и т.п. И даже тех, кто всего-навсего чертил, но при этом регулярно расплачивался с представителями разного рода надзоров и инспекций.
Это, естественно, фатальным образом сказывается на нашей конкурентоспособности. Но этот фактор обычно недооценивают, причем как власть, так и аналитики, и сами предприниматели. Считается, что главная проблема состоит в системе налогообложения, в налоговой нагрузке, которая оставляет рентабельными прежде всего сырьевые сектора, а для несырьевого сектора во многом является откровенно запретительной. При этом по данным МВД известно, что до 40% этой «экономически запрещенной» экономики существует только за счет того, что она уводится в тень. Но при этом остается вопрос: почему даже там, где наш несырьевой сектор в принципе в состоянии решать проблемы налогообложения нелегальными, теневыми методами, он все равно не выдерживает конкуренции с зарубежными аналогами, причем как на мировом, так и на российском рынке? У нас неплохо научились считать деньги там, где конкурентоспособность и эффективность связаны именно и непосредственно с деньгами. Но у нас еще не считают провалы в конкурентоспособности из-за нефинансовых факторов – бюрократического давления и, соответственно, нереализованных проектов, дезорганизации производства в ходе проверок и прочих проявлений упущенной выгоды.
В сдерживании запусков конкурентоспособных несырьевых проектов огромную роль играет наше технологическое отставание. Причем оно такое же накапливаемое, кумулятивное, как и административная рента. Например, здесь сказывается не только отсталость самих изделий, оснастки, технологий и пр., но также и неосвоенность программных средств проектирования, менеджмента и пр. Однако с этим приходится считаться как с данностью, которая не может быть существенно оптимизирована до того, как в несырьевых отраслях будет создана нормальная среда для развития.
Остается административный прессинг как один их критически важных факторов сдерживания запуска и развития несырьевых производств. С одной стороны, это та капля, которая переполняет сосуд, а с другой – это именно то, что уже достаточно понятно и даже подвержено начальной оптимизации. Кроме того, именно здесь есть возможность устранить многие одиозные практики, окологосударственные бизнесы и структуры, которые никому, кроме них самих не нужны. Именно здесь есть возможность как фундаментальных, системных, так и волевых решений с большим политическим и экономическим эффектом, но и без сколько-нибудь принципиальных встречных проблем.
Эта логика имеет продолжение и в выборе других приоритетов. Прорывы в несырьевом секторе у нас постоянно связываются прежде всего с проектами, в которых необходима та или иная форма государственной поддержки. Такие проекты действительно нужны. Но в приоритетности именно такого подхода к решению проблемы есть также нечто, естественное для административного взгляда на вещи: так проще планировать и отчитываться, рекламировать идеи и результаты, повышать свой статус и т.д. и т.п., вплоть до организации отводящих и восходящих потоков.
Однако есть и другой выход на решение проблемы: сначала попытаться убрать все то, что препятствует запуску проектов и производств, не нуждающихся в государственной помощи. Дать возможность запустить и развить все то, что само готово к запуску и развитию, но что блокируется административными барьерами. И именно отсюда начать формирование нормальной среды ведения бизнеса, в том числе его самоорганизацию и саморегулирование. Сделать уравновешивающий акцент на самостоятельном и независимом. Так мы сможем избежать нелепой ситуации, когда государство будет пытаться содействовать тому, чему оно само же в первую очередь и мешает. Бесполезно форсировать двигатель, если в машине заклинило тормоза.
* * *
Такой подход к решению проблемы может показаться тактическим. Однако при адекватной реализации это требует решений стратегического и во многом политического характера. И соответственно, выводит на необходимые политические изменения.
Точно так же, как реальная демократия нуждается в массовом реальном производстве как в своем базисном обосновании, так же и само реальное производство нуждается в реальной демократии.
Критерием реальной демократии является защищенность прав, свобод и достоинства граждан прежде всего в сфере практических, повседневных отношений.
Несколько утрируя эту мысль, можно сделать рискованное, но важное допущение: если бы какие-то иные, недемократические политические системы могли полноценно обеспечивать повседневные и практические права граждан, было бы не так принципиально, что именно происходит на верхних этажах политической системы – правит ли там народовластие, монархия или макрополитическая тирания. Другое дело, что ущемление демократии наверху тут же передается вниз, причем с кумулятивным нарастанием. Это закон: стоит наверху расслышать хотя бы легкое побрякивание того, что называют «железной рукой», как на бытовом уровне тут же расцветают бюрократический произвол, чиновничье хамство и административный харассмент в виде ненужных, но дорогостоящих «публичных услуг». И наоборот, наличие внешних признаков демократии в верхних эшелонах политики отнюдь не гарантирует, что демократия «опустится» и в среду повседневных отношений.
Тем более важно в качестве одновременно и отправной, и конечной точки держать в поле зрения именно эти пространства демократии – то, где обеспечивается суверенность демократии как полноценного, всепроникающего, «многоэтажного» народовластия. Из всех трех ипостасей демократического суверенитета в данной ситуации на первый план выступает даже не суверенитет страны в мире или суверенитет государства на своей территории, а именно суверенные права граждан, народа как высшего источника власти. Все предыдущее изложение должно было показать, что без обеспечения этого суверенитета в современном мире рассчитывать на суверенитет внешне– и внутриполитический не приходится.
Поэтому когда мы говорим, что в запуске процесса необходимо опираться в первую очередь на тех, кто в состоянии двинуться вперед, но кому для этого надо всего лишь не мешать, мы тем самым объединяем два скрытых ресурса – ресурс развития и реальной экономики, и реальной демократии.
Кроме того, мы тем самым с большой надежностью гарантируем, что при решении экономической задачи будут использованы заведомо правильные политические инструменты, что восстановление реальной экономики даст толчок и к развитию реальной, практической демократии.
В этом контексте демократия понимается не столько как политическая надстройка в виде президента, парламента, правительства, партий и относительно свободных СМИ, сколько как тип отношений, пропитывающий все поры общества, на всех уровнях и во всех ипостасях его организации. Реальная демократия в первую очередь нужна не избирателям, а производителям, не раз в четыре года, а ежечасно, не от избиркома, а в общении с низовой властью, в зоне прямого и повседневного контакта с нею.
Именно здесь сосредоточены люди, работающие или готовые работать на себя и на страну. Им не нужны инвестиции и дотации. Единственное, что сюда нужно инвестировать – Свободу и Право. Лучшая поддержка этой «середины» – не мешать и последовательно устранять то, что мешает. Это потенциал большой, а главное – наиболее перспективный. Это тыл, но без него заранее обречены и походы в наукоемкое будущее, и планы преодоления зависимости от сырьевых продаж.
Для этого необходима дополнительная идеологическая, концептуальная работа. Уже примерно понятно, что такое суверенитет страны в мире, в чем и как именно этот суверенитет утверждается. Также понятно, что такое суверенитет государства на своей территории, и все также видят, как этот суверенитет реализуется в подавлении сепаратизма, обуздании центробежных тенденций и выстраивании вертикали власти над регионами. Но в чем именно состоит важнейшая составляющая всякой суверенной демократии – суверенитет народа и частного лица – пока особо не развернуто и ярких иллюстраций из жизни не имеет. И, соответственно, как выражаются работники политического пиара, в СМИ нет такой «картинки».
Для этого также необходима внятная политическая воля. Должно ощущаться, что президент является гарантом конституции не только в плане числа своих правлений, но и в плане обеспечения прав и свобод граждан в самых что ни на есть повседневных отношениях. Государство должно бросаться на помощь не только тем, кто пострадал от землетрясений или наводнений, но и тем, кого ежедневно трясут и топят нескончаемые инспекции, проверки, запросы, претензии и полупрозрачные намеки низовой власти. Как уже отмечалось, идею сбережения народа власть могла бы дополнить идеей его сбережения от самой себя.
Для реализации такой стратегии необходимы системные решения в области права, в сфере экономических взаимоотношений между бизнесом и властью, в плане выстраивания системы властных институтов и их многочисленного окологосударственного сопровождения.
* * *
Такой подход вносит свои коррективы в политическую культуру, существенно меняя как «рабочее» отношение к демократии, так и ее идеологическое сопровождение. В нашей ситуации это выводит на следующие акценты:
1. Укрепляя и развивая собственно политическую демократию, необходимо с повышенной требовательностью относиться к обеспечению прав, свобод и верховенства закона в сфере экономической деятельности, в особенности в том, что обеспечивает запуск реальной, несырьевой экономики, массовых производств и инновационных движений. Здесь возникает замкнутая цепочка:
– для предотвращения прогнозируемого кризиса, а тем более энергетического дефолта России необходима реальная, несырьевая экономика;
– для развития такой экономики требуются экономические свободы и демократия на уровне повседневных отношений;
– низовая, повседневная экономическая демократия невозможна без демократии наверху, в сфере макрополитики и организации высших эшелонов власти;
– именно в реальной экономике формируется устойчивый слой материально независимых граждан, т.е. массовый экономически самостоятельный субъект, который только и может составить социальную базу полноценной политической демократии.
О такой демократии можно будет говорить как о суверенной в том смысле, что она порождена самими гражданами и осмысленными практическими потребностями страны, а не внешними идеологемами, какими бы гуманными и высоконравственными они ни были.
2. Такой взгляд на вещи существенно расширяет поле демократии идеологически и на практике.
Обеспечение прав и свобод экономических субъектов представляет собой классический случай правозащитной деятельности
[7]. Такого рода правозащитное движение имеет все шансы выйти за пределы «правовой благотворительности» и найти в лице бизнеса активного партнера. Если такое движение получит адекватную идеологическую и политическую поддержку со стороны государства, результат тем более может превзойти ожидания.
Именно в таких движениях формируются полноценные гражданские инициативы, а на их основе – то, что называется гражданским обществом. Такие неправительственные организации особенно дееспособны и устойчивы, поскольку создаются самими гражданами для решения своих же задач (а не специализированными группами, защищающими права третьих лиц) и являются экономически самостоятельными (поскольку не нуждаются в грантовой поддержке со стороны фондов, государства и пр.). Эти сегменты гражданского общества своей практической направленностью снижает остроту идейно-политических противостояний. Кроме того, у такого гражданского общества есть все шансы найти общие цели и точки практического соприкосновения с государством
[8].
Наконец, именно здесь формируется, обеспечивается идеологией и политически обустраивается средний класс, который, как уже отмечалось, и составляет основу всякой устойчивой демократии. Здесь также необходимо подчеркнуть важный идеологический нюанс. Обычная модальность – средний класс необходимо создать для укоренения демократии – не проходит: заинтересованность власти в том, чтобы зависеть от демократии и среднего класса – вовсе не аксиома. Но может сработать другая модальность: средний класс, причем именно в реальной экономике, необходимо создать для того, чтобы избежать кризиса экономики распределительной, в результате которого обрушатся и те фрагменты среднего класса, которые сейчас формируются в бюджетной сфере, в сфере распределения и услуг.
3. Поскольку задача имеет более или менее определенные временные пределы, отношение к ней должно быть соответствующим. Мы не можем относиться к ней, как унесенные ветром, рассчитывая подумать об этом завтра. Необходимо постоянно контролировать, поддерживается ли необходимый вектор изменений, достаточен ли их темп, для того чтобы страна успела в обозримые сроки устранить экономическое и технологическое бесправие, блокирующее диверсификацию экономики, запуск несырьевых производств и инноваций.
При этом необходимо учитывать, что в современных условиях сами исторические, политические, социальные, технологические и т.п. процессы имеют уже совершенно другие скорости и ускорения, другие характеристики и свойства, структуры и закономерности. Они по-другому детерминированы, здесь иную роль играют случайности, субъективные факторы и вызываемые ими бифуркации. Если мы рассчитываем адекватно отвечать на вызовы современности, нам необходимо иметь столь же современные представления о характере и настройках исторического процесса, о «мегатрендах цивилизации» и т.п.
Итак, для запуска реальной, несырьевой экономики необходима кардинальная дебюрократизация экономической деятельности – и она же будет означать воссоздание реальной демократии на средних и низовых уровнях.
Но здесь мы попадаем в замкнутый круг: для запуска несырьевой экономики необходимо укоротить бюрократию, в то время как эта бюрократия расширенно воспроизводится доминирующей на данный момент сырьевой, распределительной экономикой.
В данной ситуации необходима сверхординарная воля, способная создать политическое, правовое и организационное обеспечение дебюрократизации.
Однако реальное воплощение этой воли будет упираться в целый ряд проблем и прежде всего в проблемы, связанные с экономикой бюрократии. Пока существует ресурс, за который бюрократии есть смысл бороться, и, соответственно, пока у нее есть ресурс, используя который она может бороться «на поражение» с реформами, ущемляющими ее интересы – не хватит никаких политических сигналов, даже самого высокого уровня. Провал или задержку реформ можно купить, уже покупают.
И наоборот, если будет систематически сокращаться окологосударственный бизнес, представителям той же бюрократии проще будет заняться каким-нибудь общественно-полезным делом, нежели тратиться на блокировку реформ деньгами, временем, силами, а в конечном счете – деловой и человеческой репутацией.
В ходе консультаций, проводившихся при подготовке реформы технического регулирования, директор одного из предприятий подарил идею: в Посланиях Президента говорится о дебюрократизации экономики, тогда как начинать надо с деэкономизации бюрократии.
* * *
Есть бюрократия и бюрократия – и, соответственно, весьма нетождественные модели экономического поведения чиновничества.
Бюрократ – это всегда локальная монополия. Это точка, которую не обойти. Но в этой точке может происходить разное, даже если результат один – коррупционная сделка.
Чиновник может брать взятку за то, что он выполнит норму закона или подзаконного акта (например, выполнит ее вовремя, в отношении просителя, а не кого-то другого и т.п.). Но чиновник может брать взятку за то, что он норму закона или подзаконного акта нарушит (например, сделав то, чего делать нельзя, или закрыв глаза на какое-либо нарушение «истца»).
Чиновник может брать именно взятки – в брутальной или изощренной форме, но как таковые. И тогда он рискует положением или свободой. Но чиновник может организовать окологосударственный легальный бизнес, причем внешне даже не коррупционный. Однако по всем прочим параметрам эти узаконенные поборы ничем не будут отличаться от обычной взятки. От вас просто потребуют очередной документ и за его получением отправят в строго определенное предприятие (нередко дочернее в самом прямом, родственном смысле этого слова). Если называть вещи своими именами, то это та же взятка, только за нее не сажают и с нее платят налоги
[9] Чиновник может использовать свое положение в качестве государственной функции, которая системно необходима. Такие функции существуют независимо от конкретного чиновника и как таковые на данный момент расформированы быть не могут. Например, если чиновник распределяет некий ограниченный ресурс, то он может распределять его не задаром, но сама ситуация такого распределения заранее и объективно задана потребностями общества. Это своего рода естественная административная монополия.
Однако чиновник может вовсе не иметь на своем месте такого рода локальных монополий, способных приносить коррупционный доход. Сплошь и рядом положение в бюрократической машине никаких поводов для получения административной ренты не дает. И тогда такие возможности могут создаваться искусственно, построением специальных бюрократических схем, целенаправленным созданием дополнительных административных барьеров
[10].
В целом, особенно для обираемых, принципиальной разницы здесь, казалось бы, нет. Но это существенно разные схемы с точки зрения:
– масштабов и глубины негативного воздействия на экономику;
– перспектив массового клонирования бюрократических схем и самой бюрократии;
– возможностей дерегулирования, дебюрократизации, борьбы с коррупцией.
Во многих отношениях это два принципиально разных явления.
Когда бюрократия использует в коррупционных целях существующее положение (свою объективно заданную функциональную необходимость), потери примерно понятны, они в принципе считаемы, но бороться с этим явлением крайне трудно. Такая коррупция достаточно быстро становится системной, и здесь возможно только медленное, систематическое выжимание. Хирургические меры эффектны, но неэффективны, они мало что дают (разве что повышение коррупционных ставок)
[11].
С существенно иным явлением мы сталкиваемся, когда выстраиваются искусственные бюрократические монополии и дополнительные административные барьеры. Административный рэкет невозможен без административных репрессий. С таким же успехом можно было в 30-е годы перевести НКВД на хозрасчет и поставить на его основе бизнес, доходность которого зависела бы от числа посаженных или расстрелянных.
Но в то же время бороться с этой ипостасью административного рэкета несколько проще:
– здесь все более или менее на виду;
– необходимую информацию, аналитику и даже разработку проектов решений при соответствующей политической поддержке готов взять на себя бизнес;
– оперативное, хирургическое устранение таких искусственно создаваемых барьеров и доходных схем никаких проблем в системе управления не создает, поскольку ничего функционально необходимого эту систему не лишает.
Если в свое время репрессии создали экономику ГУЛАГа, которая что-то производила и строила, то экономика административных репрессий ничего не производит и способна давать только «отрицательный прирост». Поэтому вредоносность именно этого – искусственно формируемого – административного бизнеса существенно выше, чем в обычных ситуациях, когда чиновник берет взятку, просто выполняя свою рутинную работу.
Например, обычные «откаты» наносят вред тем, что лишают реальное дело части выделенных на него средств – но не более того
[12]. Когда же чиновник вынужден обеспечивать или повышать доходность своего места построением искусственных, дополнительных схем, он достигает этого только за счет создания все новых и новых препятствий для экономической и пр. деятельности. Здесь работает принцип: мы вам будем больше мешать, чтобы вы нам больше платили, чтобы мы вам меньше мешали. И этот принцип реализуется в жизни: чем больше мешают и чем более вредоносные схемы создаются, тем больше одни платят, а другие получают.
Если воспользоваться аналогией из живой природы, то мы обнаруживаем здесь два существенно разных вида паразитарного существования. В одних случаях паразит получает питательные вещества от здорового, нормально функционирующего организма (рыба-прилипала). Но иное дело, когда паразит от здорового, нормально функционирующего организма получить ничего не может (просто не дадут), а потому вынужден делать все, чтобы организм-донор заболел, а его нормально функционирование было нарушено
[13].
При этом надо учитывать, что суммарный вред от данного типа административного рэкета прямыми отчислениями отнюдь не исчерпывается. Как уже отмечалось, препятствия, создаваемые для деятельности, приводят к необходимости учитывать также экономические последствия от дезорганизации производства (например, в ходе проверок), упущенную выгоду от нереализованных проектов, потери во времени выпуска продукции на рынок, нарушенную логистику, задержки с внедрением новых технологий и т.д.
Из макроэкономических эффектов отметим основные:
– сдерживание количественных показателей и качества экономического роста;
– консервация, а в ряде отношений и наращивание технологического отставания;
– препятствия на пути диверсификации, запуска и развития несырьевого сектора.
В целом же следует подчеркнуть вопиющую несоизмеримость между не слишком большими и вполне считаемыми доходами этого административного бизнеса – и теми огромными, до конца не просчитываемыми потерями для страны, которые раскачка этого бизнеса создает попутно, как побочный эффект.
* * *
Подводя итоги, представляется целесообразным на начальных этапах создания среды для развития несырьевого сектора сделать акцент на расчистке именно этих завалов.
Прежде всего, это именно то, что нужно для запуска тех несырьевых производств, которые не требуют государственных инвестиций и иной экстраординарной поддержки, а нуждаются только в снятии критической массы административных барьеров.
Устранение искусственно создаваемых административных монополий может пройти гораздо легче, чем снижение масштабов «встроенной», глубоко укорененной коррупции, базирующейся на «естественных» административных монополиях. Как отмечалось выше, эти искусственно создаваемые схемы никому не нужны, кроме тех, кто их создает и ими пользуется. Вместе с тем, это подорвет наиболее консолидированные и организованные блокировки коррумпированной бюрократии и сращенного с нею бизнеса, препятствующие проведение целого ряда системных реформ.
Наконец, это даст встречное движение, необходимое для поддержки стратегий в области инноваций и высоких технологий – движение снизу, от восстановления низовой производственной культуры, от того массового экономического реципиента, которым новые разработки могут и должны быть востребованы.
Самое же главное заключается в том, что работа в этом направлении выводит на оптимальные алгоритмы решения такого рода проблем. Суть и принципиальное отличие этих алгоритмов не в ситуационном реагировании на эпизоды, а в создании адекватной правовой, экономической и институциональной среды для свободного развития предпринимательства.
Если оценивать в этом плане реальную политику государства, то результат окажется неоднозначным. Направления выбраны правильно, в этих направлениях делаются впечатляющие шаги… но реального продвижения явно недостаточно, а в ряде отношений и вовсе нет. Такое впечатление, что на политическом уровне даются стратегические установки, которые на уровне высших эшелонов власти принимаются к исполнению, но на уровне реализации средней и низовой бюрократией либо блокируются, либо выхолащиваются.
С этой точки зрения особый интерес представляют нефинансовые инициативы политического уровня: стратегия дебюрократизации, административная реформа, реформа технического регулирования. В сумме (и в дополнение к финансово-экономическим инструментам) эти инициативы представляют собой практически готовый комплекс идей и мер по запуску несырьевой реальной экономики. Однако здесь возникает ряд вопросов принципиального характера:
– в какой мере концептуальная и методологическая работа и практические действия в этих направлениях скоординированы между собой?
– насколько последовательно и в каком темпе проводятся эти реформы?
– хватит ли такого темпа и качества реализации данных реформ для того, чтобы страна успела набрать необходимый уровень развития реальной экономики к моменту, когда возможности сырьевого развития окажется исчерпаны или хотя бы снижены до критического уровня?
* * *
Что касается общей стратегии дебюрократизации (дерегулирования), то вначале второго президентства она была обозначена вполне определенно и даже выразительно.
«Чиновники продолжают… „давить“ бизнес, сдерживая деловую инициативу и активность…». «Ведомственное нормотворчество является одним из главных тормозов в развитии предпринимательства». «Нужно энергично наводить порядок и в других сферах, где есть избыточное государственное вмешательство…». «Речь идет…, прежде всего, о чрезмерной на сегодняшний день обязательной сертификации продукции, разного рода разрешениях, регистрациях, аккредитациях, иных нормах и правилах, не предусмотренных в законах…». «…Бюрократию нужно не убеждать уменьшать свои аппетиты, а директивно ограничивать». «В наши планы не входит передача страны в распоряжение неэффективной коррумпированной бюрократии».
Все это – из посланий Президента Федеральному Собранию за последние несколько лет. В этих тезисах:
– обозначено главное противостояние и в сильных выражениях показано, на чьей стороне политическое руководство («продолжают давить», «в наши планы не входит»);
– выявлены главные проблемы и те инструменты, при помощи которых бюрократия эти проблемы создает («избыточное регулирование», «ведомственное нормотворчество»);
– указан путь решения этих проблем («директивно ограничивать» бюрократию, устранить «на предусмотренное в законах», т.е. перейти от ведомственного нормотворчества к законодательному регулированию).
Эти установки не только не утрачивают своего значения, но в последнее время становятся еще более актуальными.
Во-первых, если смотреть на процесс не с точки зрения предпринимаемых действий, а с точки зрения достигаемых результатов, то мы обнаружим здесь разнонаправленные процессы с примерно нулевым суммарным эффектом. Что-то, удается сделать, где-то бюрократия возвращает или даже укрепляет свои позиции, но в итоге проблемы, обозначенные Президентом еще в 2001 г., в целом так и остаются нерешенными хотя бы в первом приближении.
Во-вторых, зарегулированная экономика продолжает оставаться сжатой и не диверсифицированной. Она растет, но темпами ниже, чем у других догоняющих экономик. Если же посмотреть на структуру и качество этого роста, то проблема зарегулированности экономики представится еще более острой.
В-третьих, задачи дебюрократизации и дерегулирования становятся еще более актуальными в связи с выходом на реализацию крупных государственных программ, проведение активной промышленной политики и т.д. Дело в том, что сами эти проекты и программы оказывают на процесс мощное регулирующее воздействие, работают как самостоятельные регуляторы. Если эту тенденцию не компенсировать наращиванием дебюрократизации, мы получим, с одной стороны, еще более зарегулированную экономику, а с другой стороны – среду, все более благоприятствующую разворовыванию бюджета и поборам с бизнеса. В результате мы будем продавливать в сфере реальной экономики отдельные патронируемые государством проекты, но при этом и далее терять массовые несырьевые производства, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
И наконец, главное: обюрокраченная, зарегулированная экономика не имеет внутренней энергетики для реагирования на кризисные ситуации. Она не умеет оперативно перестраиваться, изыскивать внутренние ресурсы, отвечать на резкие вызовы (а такие вызовы уже существуют). В результате в кризисной ситуации люди не бросаются сами активно решать проблемы свои и страны, а обращают взоры к начальству. А потом и не только взоры.
Ситуация усугубляется тем, что в постсоветском обществе более нет и в обозримое время не появится таких идеологических, социально-психологических и репрессивных инструментов массовой мобилизации, какие можно было задействовать раньше, например, в советский период. В этом смысле альтернатива теперь такова: либо снять административный балласт и дать возможность в полной мере раскрыться общественной инициативе и человеческому потенциалу – либо смириться с тем, что страна окажется беззащитной перед вызовами цивилизации, геополитики, интеллектуального, технологического, экономического и социального развития.
* * *
Одним из центральных действий в воплощении стратегии дебюрократизации (дерегулирования) было начало проведения административной реформы.
В обществе до сих пор нет адекватного восприятия смысла, целей и инструментов этой важнейшей реформы. Чаще всего ее воспринимают как одноразовый акт перекраивания системы исполнительной власти. Причем с результатом, прямо противоположным декларированным целям. Старую систему министерств и ведомств сделали более дифференцированной и распределенной. При этом принято считать, что в результате введения трехъярусной системы министерств, служб и агентств количество чиновников, «столов» и элементов обслуживающей их инфраструктуры резко увеличилось (на уровне обыденных толков – удвоилось, если не утроилось).
Однако, если временно отвлечься от некоторых особенностей воплощения данного проекта и уточнить базовые идеи и принципы, декларировавшиеся на тех или иных этапах его реализации, то мы обнаружим здесь одну из важнейших составляющих мегапроекта в почти готовом виде.
1. Административная реформа с самого начала не сводилась к простому переструктурированию системы институтов исполнительной власти (то есть к «нарезке квадратиков», как это называлось на рабочем сленге). Если проанализировать первый указ Президента об административной реформе, то там вообще речь не идет о переструктурировании системы министерства и ведомств. Главное в этом указе – перераспределение полномочий между государством и обществом, освобождение государства от несвойственных ему функций. Иначе говоря – идеи дерегулирования в чистом и выраженном виде
[14].
2. Следующий принципиальный момент связан с устранением фундаментальных конфликтов интересов посредством разделения функций правоустановления и правоприменения, наконец, просто с отделением денег от политики в системе управления.
Если об этом забыть, то теряется главный смысл деления федеральных органов исполнительной власти на три категории: министерства, службы (надзоры) и агентства. Смысл этот состоит в том, чтобы министерства как органы власти, причастные к определению политики и правоустановлению (к подготовке проектов законов и к изданию подзаконных актов), не выполняли непосредственно правоприменительных функций, позволяющих извлекать административный доход в том или ином его виде. И наоборот: чтобы органы власти, реально или потенциально связанные с деньгами (например, через осуществляемый службами надзор за выполнением обязательных требований, оказание публичных услуг агентствами и т.п.) были максимально удалены от политики и правоустановления. Такая схема (если она реализуется последовательно и неформально) позволяет, насколько это возможно, купировать узковедомственные, нередко откровенно корыстные интересы при определении политики и установлении норм и правил.
Для России это принцип, во-первых, революционный (в хорошем смысле этого слова), а во-вторых, предельно актуальный в виду запредельного уровня распространения коррупции и окологосударственного, административного бизнеса. Когда нормы и правила устанавливают те же, кто их контролирует и надзирает за их исполнением, когда политику в той или иной отрасли определяют те, кто имеет в этом прямую или косвенную коммерческую заинтересованность, страной начинает управлять узкокорпоративный интерес, сплошь и рядом в корне расходящийся с интересами общества и государства.
Поэтому данный принцип в административной реформе является базовым. Именно он позволяет не просто говорить о дебюрократизации экономики, но и иметь при этом понятный и единственно действенный инструмент – деэкономизацию бюрократии.
3. С самого начала административной реформы важнейшим принципом ее реализации было также максимальное участие общественности в ее проведении (прежде всего представителей предпринимательского и экспертного сообщества). Этот принцип был в полной мере реализован на первом этапе административной реформы – в ходе инвентаризации, анализа и «расчистки» всей совокупности функций и полномочий органов исполнительной власти
[15]. Этот принцип был в существенно меньшей степени реализован на втором этапе – в ходе создания новой структуры органов исполнительной власти, определения их функций и полномочий (что и предопределило многие дефекты этого этапа работы). Однако этот принцип также надо признать для административной реформы основополагающим. В противном случае исполнительная власть в реформировании самое себя остается наедине с собой, а поскольку эту гигантскую работу внутри самой исполнительной вертикали могут выполнить только ведомства, мы сталкиваемся все с тем же узкокорпоративным интересом, если не выхолащивающим реформу то, как минимум, ее размывающим.
* * *
Третий элемент – реформа технического регулирования – затрагивает едва ли не всю нефинансовую сферу регулирования предпринимательской и иной деятельности
[16]. Сюда относятся:
– установление обязательных требований, технических норм и правил;
– система допуска на рынок (как выпуска продукции в обращение, так и допуска к деятельности);
– система государственного контроля и надзора за выполнением обязательных требований.
Реформа технического регулирования своим началом по времени предшествовала административной реформе и во многом предопределила ее идеологию и принципы. Затем она существенной своей частью вошла в административную реформу в качестве ее важнейшего, неотъемлемого элемента.
Основные принципы реформы:
1. Резко сужается объем регулирования за счет принципиального, качественного сокращения количества обязательных требований и регулируемых параметров. Этот подход можно назвать «нормативным дерегулированием». Из сферы обязательных требований выводятся:
– нормы, не связанные с обеспечением безопасности, прежде всего нормы по качеству и потребительским достоинствам продукции;
– требования, не являющиеся минимально необходимыми для обеспечения безопасности при данном уровне развития экономики и технологической базы;
– требования, не являющиеся собственно параметрического (что именно должно быть достигнуто), а относящиеся к конкретным конструкционным и технологическим решениям (как именно это может и должно быть сделано).
Такого рода сокращение объема регулирования и его оптимизация достигается «распаковкой» действующей нормативной базы. В старой системе норм и правил в качестве одинаково обязательных перемешаны нормы, обеспечивающие безопасность – и не связанные с ней (качество, удобство и пр.), собственно нормы – и реализующие их конкретные конструкционные варианты и технологии. Распаковка документов обеспечивает четкое разделение этих норм. Требования по безопасности и собственно нормы включаются в технические регламенты – в новый (для России) тип документов. Вне технических регламентов обязательные требования вводиться не могут, изменения и дополнения вводятся только корректировкой технических регламентов. Все остальное остается содержанием добровольно применяемых стандартов
[17].
С точки зрения задач, стоящих перед мегапроектом, выведение в добровольную сферу конкретных конструкционных и технологических решений имеет принципиальное, решающее значение. Именно обязательность таких часто изменяемых и детализированных норм, имеющая место в действующей нормативной базе, неизбежно ведет к хроническому отставанию системы норм от технического прогресса, а тем самым – и к нарастанию нашего технологического отставания. Без такого рода распаковки невозможно в принципе преодолеть сложившуюся ситуацию, в которой для действующей нормативной базы немыслимыми инновациями являются не только новейшие решения, но и вовсе не новые и даже давно устаревшие виды продукции и технологий.
2. Прекращается ведомственное нормотворчество. Технические регламенты принимаются федеральными законами или, как минимум, постановлениями Правительства
[18].
Такое решение исходит из принципиально новой философии технической нормы. Оно учитывает, что техническая норма является мощным средством выработки и реализации экономической, в том числе макроэкономической политики. Незначительные, на первый взгляд, корректировки технических требований могут:
– закрывать рынок страны или взламывать рынок мировых конкурентов; подвязывать промышленность и экономику страны к тому или иному сегменту мирового рынка;
– сдерживать одни отрасли и давать преференции для развития других, в том числе в плане диверсификации;
– стимулировать или, наоборот, регулировать структуру предпринимательства – ограничивать и даже сводить на нет возможности ведения в той или иной отрасли малого, среднего или крупного бизнеса;
– тормозить или, наоборот, подстегивать инновационные процессы, стимулировать или, наоборот, закрывать возможности внедрения высоких технологий, запуска наукоемких производств;
– посредством ужесточения или, наоборот, либерализации норм вести ту или иную ценовую политику и тем самым влиять на социальные процессы.
Таким образом, совокупность технических регламентов, принимаемых законами и частично (временно) постановлениями Правительства, представляет собой (должна представлять) единое множество требований. В случае адекватной реализации реформы это множество требований впервые может стать взаимосвязанным и внутренне скоординированным, подчиненным решению единых общенациональных задач. Намечается переход от спонтанного и неконтролируемого развития сферы технического нормирования к выработке и реализации единой осмысленной политики в области технического регулирования, в том числе в плане его влияния на экономические, социальные и даже политические стратегии
[19].
В этом плане совокупность технических регламентов становится аналогом федерального бюджета – своего рода техническим бюджетом страны.
3. В проведении реформы технического регулирования принципиальным моментом также является максимально активное участие общественности в процессе формирования нового технического законодательства. Эта фраза может показаться дежурной, но в данном случае она имеет глубокий и концептуальный смысл.
В закон «О техническом регулировании» было включено положение о том, что разработчиком технического регламента может быть любое лицо. Эта норма, многим до сих пор кажущаяся революционной, а то и просто неадекватной, в действительности лишь фиксирует одну из важнейших конституционных свобод: в Российской Федерации любое лицо имеет право разработать проект любого документа (далее все решается на уровне субъекта права законодательной инициативы и пр.). Однако это положение понадобилось, чтобы подчеркнуть, что впредь в России разработка технических норм ни в коей мере не является монополией ведомств и связанных с ними организаций.
Более того, на начальных этапах реформы считалось самоочевидным и безоговорочно принималось следующее:
– разработка нового технического законодательства не должна проходить под контролем ведомств;
– реформа будет тем более успешной, чем больший вес в нормотворческом процессе будет иметь предпринимательское и экспертное сообщество;
– за бюджетные средства и под контролем исполнительной власти надо разрабатывать только те технические регламенты, разработку которых не возьмет на себя бизнес;
– основная нормотворческая активность должна переместиться в законодательное поле, поскольку это позволяет в должной мере ограничить заинтересованное влияние ведомств и максимально задействовать неправительственный актив.
Таким образом, реформа технического регулирования в своем стратегическом и политическом значении выходит далеко за рамки своего предметного поля. В известном смысле это метареформа – попытка изменить сами принципы, методы и инструменты реформирования нашей социально-экономической реальности. В этом отношении здесь присутствует целый комплекс достаточно неординарных идей:
– завалы на пути запуска реальной экономики, развития бизнеса и внедрения инноваций разбираются не спорадическими действиями, а на уровне принципиальных, системных решений, которые в своих пределах являются всеобъемлющими;
– задачи дебюрократизации и дерегулирования решаются в принципиально новой для нас политической конструкции: политическое руководство и гражданское общество «берут в клещи» среднюю и низовую бюрократию, «директивно ограничивая» ее с использованием представительной, законодательной власти;
– эта конструкция в случае ее успешной реализации хотя бы в отдельных направлениях запускает триггерный процесс, который становится самовоспроизводящимся, кумулятивно расширяющимся и необратимым.
Именно этим объясняется то отчаянное противодействие, которое заинтересованные группировки ведомственной бюрократии оказывают не только реформе в целом, но и принятию хотя бы первого пакета инициативных регламентов, уже давно разработанных предпринимательским сообществом.
И именно в этом надежда на успех реформы: пока ее основная конструкция не сломана, достаточно хотя бы ограниченного стартового успеха, для того чтобы процесс пошел по нарастающей и стал необратимым.
* * *
Указанные реформы, естественно, не исчерпывают всего комплекса мер, необходимых для запуска реальной, несырьевой экономики. Но они представляются в сложившейся ситуации приоритетными, поскольку:
– именно здесь сейчас сосредоточены, с одной стороны, достаточно явные барьеры системного реформирования, а с другой – главные ресурсы оптимизации и развития;
– эти реформы достраивают комплекс мер до необходимой полноты и снижают риски, связанные с тем, что прочие, прежде всего финансово-экономические меры будут провалены и обернутся растратой средств;
– запускают общий и принципиально новый алгоритм выстраивания внятных, цивилизованных, правовых взаимоотношений между государством и обществом, властью и бизнесом;
– увязывают задачи и процессы диверсификации и инновационного развития с политическим и социальным разделами единого мегапроекта.
Иначе говоря, на данный момент в стратегическом планировании это те «кнопки», которые необходимо нажать, чтобы придать движению нужное направление и достаточный импульс.
Это те самые точки, в которых сейчас может и должно продолжиться воссоединение российской власти с народом, преодоление извечной для России отделенности государства и власти от народа и общества.
Это – повод для реальной, а не косметической консолидации российского общества. Такая консолидация имеет все шансы стать, во-первых, основательной (поскольку базируется не на пропаганде, а на совместном практическом действии), а во-вторых, достаточно эффективной (поскольку строится на решении задач, не вызывающих в обществе каких-либо разночтений, а потому особо интегративных).
* * *
Вместе с тем, именно в этих точках мы сталкиваемся с наиболее отчаянным и организованным сопротивлением той части бюрократии, благополучие которой строится на экономике распределения, окологосударственном бизнесе, санкционированных поборах и простой коррупции.
Кроме того, сказывается известная рассогласованность в реализации этих стратегических направлений, их недостаточная взаимная провязка в едином проекте. Базовая идеология реформирования нередко отходит на второй по мере вхождения реформ в стадию практической реализации. Иначе говоря, намеченные действия имеют тенденцию становиться самоцелью, при этом порой забывается, ради чего они, собственно, запланированы.
Так, за последнее время было проведено немало системных мероприятий и реорганизаций, однако если оценить эти усилия с точки зрения основной стратегической цели – дебюрократизации, дерегулирования, снижения административного прессинга, то результаты окажутся неочевидными, а в некоторых отношениях даже спорными.
Есть определенные, порой очень энергичные действия, но при этом впечатляющих прорывов, которые имели бы практические следствия, нет. В целом положение с дебюрократизацией представляется в чем-то законсервированным, в чем-то изменяющимся в лучшую сторону, но в вяло текущем режиме, а в чем– и усугубляющимся. Во многих отраслях реального производства копится настроение, выражаемое одним словом: «Достали!». С точки зрения регулирования, эти виды деятельности продолжают существовать в режиме максимального неблагоприятствования. В лучшем случае люди уходят в торговлю, иногда из бизнеса, в худшем (не для людей, а для страны) – открывают свои дела за границей.
* * *
В рамках административной реформы проведена большая работа по расчистке избыточных функций органов власти. Однако в массе своей эти признанные избыточными и отмененные функции оказались либо второстепенными, либо «мертвыми». В том, что касается «доходных» функций, воздвигающих главные барьеры для развития бизнеса и экономики в целом, успехи более скромные.
Вместе с тем, в общей конструкции мегапроекта именно стратегия дерегулирования является тем идеологическим контекстом, в котором реализуется административная реформа. В этот контекст вписываются обе основные задачи данной реформы: повышение эффективности управления и снижение административного давления на бизнес. При таком взгляде на вещи эти задачи ни в коей мере не противоречат друг другу, а наоборот, тесно взаимосвязаны.
Освобождение государства от не свойственных ему функций означает не прекращение выполнения данных функций, а их выведение в общественную, рыночную сферу, в которой эти функции, как правило, реализуются более эффективно
[20].
Кроме того, освобождение государства от избыточных функций позволяет ему сосредоточиться на тех функциях, которые никто, кроме государства, обеспечить не в состоянии. Есть мудрое правило: в нормальном государстве всеми выгодными делами занимаются частные лица, граждане – государство занимается только невыгодными делами, которыми никто, кроме него, заниматься не станет, да и не может. Но у этого правила есть и обратная сторона: чем больше государство занимается не свойственными ему выгодными делами, тем меньше оно уделает внимание своим главным задачам, обеспечению невыгодных, «неторгуемых» функций.
И наконец, одна из главных задач административной реформы – снижение административного прессинга. Если вспомнить, что государство управляет в том числе и экономикой, то окажется, что оно может повышать эффективность управления рациональным самоограничением, снижением своего вмешательства в экономическую деятельность.
Однако, как уже отмечалось, главной проблемой здесь является радикальное отделение политики и правоустановления от функций, связанных с распределением ресурсов, получением дохода от публичных услуг, а тем более – от функций, порождающих вокруг себя организованный административный, окологосударственный бизнес. С этим, пожалуй, пока дело обстоит хуже всего.
Во-первых, даже на уровне функций, закрепленных за ведомствами в их основополагающих документах («Вопросах» и «Положениях»), осталось немало избыточных функций, в том числе противоречащих вышеуказанному принципу.
Во-вторых, вопреки официально установленным функциям ведомства сплошь и рядом либо решающим образом вмешиваются в процесс правоустановления, либо просто занимаются реальным правоустановлением посредством издания собственных нормативных актов и иных документов, фактически являющихся обязательными.
В-третьих, ведомства, которые логикой административной реформы должны быть отделены от правоустановления в виду очевидного конфликта интересов и явной коммерческой заинтересованности, все более активно вмешиваются и в сам процесс проведения системных реформ, пытаются взять его под контроль. Там, где это в той или иной мере удается, реформы закономерно начинают сворачиваться или выхолащиваться.
* * *
Хрестоматийным образцом в этом отношении являются проблемы с реализацией реформы технического регулирования.
Еще до начала реформы явственно обозначилась консервативная, контрреформаторская позиция Госстандарта – ведомства, административный бизнес которого реформа подрывает в первую очередь
[21]. Таким образом, еще задолго до административной реформы ее базовая конструкция была очевидной: к правоустановлению вообще и к реформированию отдельных подсистем в частности нельзя слишком близко подпускать ведомства, имеющие в этом плане очевидный конфликт интересов и явную меркантильную заинтересованность.
Справедливость этого принципа в полной мере подтвердилась и на этапе реализации реформы. Поскольку в 2003 г. административная реформа еще не начиналась, ничто не помешало совершить стратегическую ошибку – назначить Госстандарт органом, ответственным за проведение реформы. В результате первые же полтора года реформа фактически простояла на месте
[22]. После передачи реформы в ведение Минпромэнерго реформа пошла форсированными темпами. Однако после того, как в результате аппаратной интриги и вопреки базовым принципам административной реформы Ростехрегулирование (преемник «коммерческой» части Госстандарта) перетянуло на себя подготовку изменений в законе «О техническом регулировании», реформа вновь забуксовала минимум на год.
Более того, усилиями Ростехрегулирования и ряда заинтересованных ведомств заложены основания под возможность свертывания реформы по основным ее направлениям:
– перевода значительной, если не большей части технических регламентов из законодательного поля под постановления Правительства (что критически повышает влияние ведомственных интересов и резко сокращает возможности участия общественности в формировании новой нормативной базы);
– сведения регламентов к общим декларациям, переадресующим через систему ссылок всю конкретику нормирования в те же стандарты, которые в нераспакованном виде остаются обязательными если не де-юре, то де-факто;
– радикального сокращения поля реформы за счет выведения из нее под откровенно надуманными предлогами целого блока – регулирования безопасности производственных процессов
[23].
Для понимания всех сложностей контекста, в котором реализуется реформа технического регулирования в России, необходимо учитывать также некоторые пограничные ситуации, в которых встречаются, с одной стороны, бюрократия как бизнес, а с другой – бизнес как бюрократия.
В крупных компаниях, а тем более в суперкорпорациях нередко обнаруживается тенденция к формированию своей, внутренней бюрократии, связанной с бизнесом на ниве технического регулирования. Здесь также работают свои системы обязательного (в данной системе) нормирования, аккредитации, сертификации, аудита промышленной безопасности и т.д. И порой здесь также выстраиваются административные барьеры, взимается административная рента.
В определенном смысле это ситуация даже более сложная, чем с административными барьерами, выстраиваемыми со стороны государства. Для государственных барьеров есть понятные правовые и институциональные формы противодействия. Что касается подобных схем, выстраиваемых в бизнесе, то они являются частным делом компаний и формально никому не навязываются
[24]. Поэтому такого рода внутрикорпорационные барьеры могут устраняться только внутренними мерами.
В то же время для реформы технического регулирования здесь есть специальная проблема, связанная с тем, что в отдельных случаях внутрикорпорационная низовая бюрократия может сращиваться с ведомственной бюрократией и выступать с ней единым фронтом. Это объясняет отдельные блокировки, но не объясняет того факта, что представители примерно одинаковых по масштабу, статусу, организационным схемам и даже виду деятельности компаний могут занимать прямо противоположные позиции в отношении реформы. По-видимому, здесь имеют место субъективные факторы и конкретные аппаратно-кадровые интриги, в своей конкретике выходящие за рамки системного анализа проблемы, но присутствующие в нем как явление.
* * *
В отношении базовых реформ есть два вопроса. Насколько последовательно эти реформы проводятся? Достаточны ли их темпы?
С последовательностью уже есть проблемы, и они понятны.
Реформа технического регулирования сначала полтора года буксовала без запуска правительственной программы разработки регламентов, потом за полтора года заметно продвинулась, а теперь вот уже более года вновь находится в полуобморочном состоянии, вызванном неудавшимися попытками пересмотреть концепцию реформы и удавшимися попытками внести в базовый закон изменения с неясным смыслом и плохо предсказуемыми последствиями.
Можно по-разному представлять себе тактики и траектории проведения таких реформ, но ни в коем случае нельзя делать шагов назад. Это крайне плохо влияет на главный потенциал таких реформ – на поверивших в них людей, а также на репутацию власти.
Что касается темпов реформ, необходимых для перехода к несырьевому базису, то здесь возможны разные оценки.
Нефтяное благоденствие не вечно. Это один из главных постулатов назревающего мегапроекта. Именно перспектива ухудшения, если не обвала нефтяной конъюнктуры не позволяет стране впасть в приятное загнивание. А коль скоро уже есть понимание необходимости делать что-то более или менее решительное, закономерны следующие вопросы:
– как долго может сохраняться благоприятная нефтяная конъюнктура (или, что то же самое: как скоро она может закончиться)?
– сколько времени понадобится, чтобы преодолеть накопленные политические и организационные инерции, провести необходимые реформы и к нужному моменту избавиться от нефтяной зависимости хотя бы в ее наименее приемлемых формах?
– какого масштаба и какой глубины изменения в экономике, в технологиях, а возможно, и в политике при этом необходимы; в какой мере и готова ли вообще страна к решительному развороту событий?
В более жесткой формулировке подобные вопросы могут звучать так:
– когда надо было начинать перестройку экономики и принятие мер по преодолению технологического отставания?
– можно ли считать достаточными принимаемые сейчас меры с точки зрения их масштабности, системности, скорости и глубины, причем в расчете не на щадящие, а именно на острые (хотя и теоретически вероятные) варианты развития событий?
– есть ли вообще шанс успеть с диверсификацией экономики и выходом на новые технологические рубежи до того, как ситуация с ценами на нефть изменится и стабилизационные ресурсы окажутся исчерпанными?
И, наконец, самый жесткий вопрос, логично вытекающий из предыдущих: что будет, если не успеем?
При этом для понимания ситуации полезно держать в поле зрения стопроцентно нереальный, но зато стопроцентно отрезвляющий сценарий: что было бы со страной, если бы цены на нефть резко снизились или просто обвалились, причем завтра?
Ответы на этот вопрос более или менее понятны, что не позволяет расслабляться
[25].
Однако даже куда менее острые сценарии допускают последствия не только социально-экономического, но и политического характера. А именно: серьезным испытаниям может подвергнуться суверенитет становящейся российской демократии. Это связано с некоторыми характерными чертами нашей суверенности во всех ее проявлениях:
– суверенитета страны в мире,
– суверенитета государства на своей территории,
– демократического суверенитета как народовластия.
* * *
Укрепление внешнеполитического суверенитета за последние годы связано прежде всего с повышением экономической самостоятельности государства во внешнем мире и стабильности власти внутри страны. Упругая, а иногда и подчеркнуто жесткая дипломатия немыслима для страны-должника или для режима, положение которого не вполне стабильно.
Вместе с тем, и то и другое в значительной степени замкнуто у нас на нефтяную конъюнктуру. Именно она позволяет расплачиваться с внешними долгами (но и она же при плохих раскладах вынуждает сидящие на нефтяной «игле» страны запрашивать кредиты).
Кроме того, надо реально оценивать роль такой конъюнктуры в обеспечении повышенной лояльности населения, а отчасти и «тефлонового» рейтинга действующего президента. Стабилизация социальной сферы с признаками пусть небольшого, но стабильного улучшения (один из устоев популярности) обеспечена прежде всего все той же конъюнктурой. Кроме того, образ лидера, при котором страна вышла из кризиса в нормальный режим, по-хозяйски распоряжается своим настоящим и даже начинает работать на будущее, строится опять же в значительной мере через проекты, реализуемые на средства от сырьевых продаж.
Если так, то можно прогнозировать последствия от ухудшения нефтяной конъюнктуры для того образа внешнеполитического суверенитета, который на данный момент создан и пока укрепляется.
В случае снижения цен на нефть и исчерпания стабилизационных запасов страна опять оказывается перед развилкой: либо брать внешние кредиты для поддержания лояльности населения и стабильности режима – либо кредиты не брать, но тогда сворачивать социальные программы и амбициозные проекты, ставя под удар престиж власти и доверие к ней.
Любой из этих вариантов резко ограничивает возможности проведения самостоятельной, активной внешней политики. Если же допустить, что снижение цен на энергоносители возможно в оперативном времени и застанет страну в ее нынешнем положении, впору просчитывать и куда более серьезные испытания для суверенитета России в мире. В просчете таких вариантов приходится исходить из крайних допущений: если бы обвал цен на нефть мог случиться в ближайшие годы, то впору было бы ставить вопрос об экстраординарных мерах по сохранению национального суверенитета.
Этот прогноз покажется не столь фантастическим, если учесть, что в современном мире потеря суверенитета вовсе не обязательно оформляется через пакты или перенос государственных границ, но легко реализуется в рамках финансового, информационного, технологического и пр. видов подчинения и господства.
* * *
Все вышесказанное также справедливо в отношении внутренней политики, в том числе, в вопросе обеспечения суверенитета государства на своей территории.
Хорошая нефтяная конъюнктура не может не подстегивать центробежные фантазии со стороны регионов-доноров. Однако эта понятная тенденция уравновешивается рядом сдерживающих факторов. Высокие цены на нефть консолидируют интересы регионов-реципиентов, питая противоположные, центростремительные настроения. Подхватывая эту тенденцию «регионального социализма», федеральный центр перекраивает финансовые потоки, замыкая их на себя в качестве распределителя и тем самым укрепляя как свое положение, так и возможности дальнейшей централизации.
В нашем положении главным основанием нового централизма являются пока не столько базисные интегративные связи, сколько факторы политические: принципиально новый уровень фактической (в том числе социально-психологической) легитимности центральной власти, достаточная политическая лояльность населения, высокий личный рейтинг президента, отсутствие внятных, не опереточных политических альтернатив. Именно эти обстоятельства позволили федеральному центру уже на начальной стадии нынешнего правления разговаривать с регионами с позиции легитимной силы.
Но необходимо также напомнить, что именно дефицит реальной легитимности в предыдущее правление позволял регионам жестко торговаться по поводу местных вольностей, вынуждая центр обещать раздачу суверенитета, «кто сколько унесет», а отчасти и следовать таким обещаниям.
В оценке возможных вариантов необходимо в полной мере отдавать себе отчет в том, насколько сильна и значима персонификация нового российского централизма (как тенденции) и федерализма (как состояния).
Утверждение, что страну заново собрал нынешний президент, не во всем является преувеличением, но при этом и не содержит ничего восторженного. Такого рода персонификации имеют свои плюсы (такие сборки можно делать достаточно быстро, когда ситуация требует действий, а времени на более системные решения нет). Но они же имеют и обратную сторону. В экстремальном варианте это звучит примерно следующим образом: как он собрал, так без него и разберут.
Можно утешать себя тем, что Россия все же не империя Александра Великого, державшаяся, как известно, только пока император носился с войском из конца в конец своих необозримых владений, огнем и мечом доказывая преимущества дружбы народов под эгидой великой державы. Однако уже сравнение с СССР не оставляет поводов для благодушия. Через четыре года после снижения цен на нефть Союза не стало. За несколько лет до этого распад СССР, хотя и прогнозировался теоретически, но не был рабочим сценарием. Тем не менее, почти в одночасье раскололось государство, имевшее, как тогда казалось, мощные инструменты защиты своей целостности, включая неоспоримые силовые аргументы.
Если сравнить ситуации в нынешней России и в СССР накануне распада, то они не совпадают по общему тренду: в 80-х гг. в СССР накапливались тревожные тенденции, тогда как сейчас Россия, оттолкнувшись от дна кризиса, центробежные тенденции преодолела и становится более консолидированной.
Вместе с тем, здесь не все однозначно. В СССР на глазах распадались основы идеологической и политической консолидации, однако все еще была значима высокая (иногда искусственно завышенная) консолидация через производственно-экономические связи
[26]. Сейчас в России скорее наоборот, налицо прежде всего политическая консолидация. Экономическая интеграция если и достигается, то прежде всего перенастройкой финансовых потоков. Иначе говоря, интеграция нарастает за счет экономики распределения и перераспределения, тогда как интеграция через производственные и внутриэкономические связи уже не столь значима (если не сказать, становится все менее значимой).
Из этой ситуации рано или поздно надо выходить. Интеграция через распределение эффективна только до тех пор, пока есть, что распределять. Но как только распределяемый объем сжимается, позиции регионов в отношении центра начинают меняться
[27].
На настоящий момент создано немало рубежей защиты от дезинтеграции (правда, более политического, ситуативного, а иногда и чисто субъективного, кадрового характера). И тем не менее, необходимо признать: если снижение, а тем более обвал цен на традиционные энергоносители произойдет до того, как будет преодолена сырьевая ориентация экономики страны (и всего, что с ней связано), это будет еще одним серьезнейшим испытанием для целостности России.
* * *
Что касается суверенитета народовластия и обеспечения гражданских свобод, то ситуация складывается здесь не менее сложная.
Выше уже говорилось, что распределительный характер экономики и власти делает демократию, как минимум, необязательной. Если же иметь в виду средние и низовые уровни взаимодействия населения с властью, то здесь обеспечение гражданских прав становится и вовсе проблематичным.
Распределительная бюрократия – это не состояние, а процесс. Как и всякий бизнес, она предполагает рост, экспансию. Пока здесь наблюдаются две тенденции. Во-первых, бюрократия активно работает против попыток ее обуздания «сверху»: она блокирует реформы, а там, где государству удается сократить административный бизнес, тут же, как хвост у ящерицы, вырастают компенсирующие схемы. Во-вторых, там, где реформы заблокированы, идет наращивание административного бизнеса – создание новых схем и структур, расширение старых. Причем, чем успешнее такого рода блокировка, тем больше аппетит. Что объяснимо: надо «отбивать» затраченные средства, обеспечивать новыми сегментами бизнеса тех, кого ранее вовлеки в блокировку реформ в качестве союзников, и, наконец, просто использовать максимум возможностей, пока ситуация позволяет.
Если в результате снижения цен на нефть положение начнет ухудшаться, что приведет к снижению фактической легитимности власти, это закономерно создаст предпосылки для свертывания гражданских свобод. Срыв в новый тоталитаризм в современной ситуации практически нереален, однако более или менее жесткие реакции на критику, протестные настроения и оформление политических альтернатив еще возможны.
* * *
Подводя итог вышесказанному, можно сделать малоутешительный, но при этом мобилизующий вывод: рано или поздно России предстоит пережить второе издание ситуации, в которой оказался СССР в конце 80-х гг.
Если страна окажется не готовой к снижению, а тем более к обвалу цен на нефть, в остро кризисной ситуации можно прогнозировать рецидивы попыток:
– нагнетания нового изоляционизма, собирания нации на основе образа внешнего врага;
– формирования «цивилизованного» подобия диктатуры в качестве рецепта от назревающей дезинтеграции государства;
– нового ГКЧП как инструмента удержания власти в условиях роста социального протеста и усиления внутриполитических альтернатив.
Если взглянуть на все это с точки зрения исторической ретроспективы, то окажется, что Россия сейчас находится в положении, которое стало уже почти стандартным для нашей истории: необходимы глубокие реформы, шанс на их проведение есть, и все зависит от того, будет ли этот шанс реализован.
Если этот шанс будет реализован, открывается перспектива дальнейшего позитивно-эволюционного развития.
Если нет – есть все основания для формирования очередной революционной ситуации, что российская история уже многократно проигрывала.
Судя по тем защитным механизмам, которые на данный момент созданы или объективно сформировались, революций не будет даже при достаточно плохих сценариях. Однако у нас есть шанс еще раз испытать все удовольствия прохождения через революционную ситуацию, пусть даже с некатастрофическим исходом.
Наконец, нельзя не учитывать и непрогнозируемые варианты, когда каскад бифуркаций приводит к реализации сценариев, до этого казавшихся невозможными даже теоретически.
* * *
В этой ситуации приходится сопоставлять скорости двух относительно независимых друг от друга процессов:
– приближение момента, когда продажи энергетических ресурсов перестанут обеспечивать потребности страны;
– подготовку страны к такому развитию событий в виде проведения соответствующих реформ.
Эти два процесса соединяет (или не соединяет) наше понимание.
Либо мы понимаем угрозы, считаем время и риски, прорабатываем худшие варианты – и тогда политическая воля имеет шанс стать адекватной потребностям развития.
Либо мы исходим из относительно благоприятных сценариев, работаем в диапазоне оперативного управления – и тогда все зависит от неконтролируемого хода событий.
В худшем для человечества, но лучшем для нашей распределительной стратегии варианте основная энергия еще долго будет получаться сжиганием углеводородов, добываемых и утилизируемых относительно старыми методами. И тогда в точке неизбежного (в конечном счете) перехода к новым энергетическим стратегиям мы либо встречаемся с ними в более или менее подготовленном виде, но «на авось», либо оказываемся так же неподготовленными к новой ситуации, как и сейчас.
В лучшем для человечества, но худшем для такой стратегии сценарии мир освобождается от углеводородной зависимости несколько ранее, чем мы рассчитывали. И тогда у России есть все шансы пройти еще один круг испытаний по части суверенитета, демократии, хлеба и социально-политических зрелищ.
Эти два процесса – глобальный технологический и локальный политический – идут параллельно. Но в любой точке такого развития политика пока еще может принять во внимание как плюсы, так и возможные угрозы технологических прорывов. Вопрос в том, в какой точке процесса это произойдет и не окажется ли такой контакт запоздавшим. При этом надо учитывать, что процесс может идти с крейсерской скоростью – а может неожиданно пойти совершенно другими темпами.
* * *
Прогнозировать углеводородную конъюнктуру – дело на данный момент благодарное по роду занятий, но неблагодарное по результатам. Прогнозов и сценариев много, но большинство из них, одновременно и исключают друг друга, и имеют близкие вероятности реализации.
В частности полагается, что спрос на нефть еще примерно 20 – 25 лет будет опережать предложение, а значит, цены на традиционные энергоресурсы будут расти.
Не исключаются варианты, когда цена на нефть подскочит до 150 –170 долларов за баррель.
По некоторым прогнозам запасов нефти в России хватит примерно на 20 лет.
По другим данным Россия – одна из наименее разведанных территорий по части запасов углеводородных и других ресурсов.
Очевидно, что разработки альтернативного топлива будут продолжаться, активизироваться и рано или поздно увенчаются успехом.
Вместе с тем утверждается, что здесь также есть свои системные ограничители (например, биологическое топливо почти реально, если не считать того, что территории ограничены, в том числе посевными площадями).
Одновременно утверждается, что генное модифицирование в ближайшее время способно решить эту проблему как в отношении еды, так и в отношении биоэнергетики.
Параллельно разрабатываются энергосберегающие, неэнергоемкие технологии.
Отдельно следует подчеркнуть, что сама добыча, транспортировка и продажа энергоносителей становится делом, все более высококонкурентным в плане технологий, управления и т.д. Отсюда следует, что проблема может упереться не столько в спрос на ресурсы, сколько в ликвидность тех способов работы с ними, на которые мы на данный момент способны. Проще говоря, рынок сохранится, но нас на этом рынке не будет (по крайней мере, в том объеме, который нам необходим для поддержания существующего положения). Причем не только из-за эволюции технологий, но и вследствие, например, организованного краткосрочного, но обрушивающего демпинга, захвата или подчинения третьими странами ресурсодобывающих регионов и т.д.
* * *
Такого рода перечисления и состыковки различных сценариев можно продолжить. Однако в данном случае принципиально не то, насколько вероятна реализация того или иного сценария, а то, что такие сценарии есть и что вероятность их реализации не равна нулю. Такие сценарии требуют не обычных оценок вероятности, а логики «неприемлемого ущерба». Если вероятность события низка, но возможные потери катастрофичны, превентивные меры признаются необходимыми. Поэтому при проектировании опережающих программ необходимо исходить из наиболее острого из сценариев, каким бы маловероятным он ни казался.
* * *
При нынешних мировых трендах, на диверсификацию экономики и раскачку достаточного числа производящих секторов у нас остается не более тридцати-сорока лет, максимум пятьдесят. За это время необходимо не только сменить экономические акценты, но и наполнить реальным экономическим же смыслом такие ставшие немодными слова, как «правовое государство», «гражданское общество», «средний класс». А это – вопросы смены поколений.
Однако время сжимается. Приходится учитывать уже не скорости, а ускорения. На протяжении жизни одного человека успевают возникнуть и уступить место другим целые типологические разделы техники. И процесс этот пока идет по нарастающей.
При раскладе, лучшем для технологического развития, но не лучшем для нас, запас времени может оказаться ограниченным примерно двадцатью годами.
Два, три десятка лет – срок большой и по обычным человеческим меркам, и в масштабах управления. На такие перспективы не всегда заглядывает даже среднесрочное планирование.
Однако если собрать воедино комплекс задач, которые необходимо решить во избежание энергетического дефолта со всем букетом экономических, социальных и политических последствий, то окажется, что времени на паузу или раскачку практически нет.
Более того, задача мегапроекта выходит далеко за рамки оперативного управления. Предстоит вырваться из вековой традиции, у начала которой стояли лен и пенька, а теперь – нефтегазовый комплекс. Надо запустить массовые несырьевые производства, а для этого – изменить социальную и правовую среду бизнеса, правила и экономику администрирования, отдельные политические конструкции и представления.
Запуск производящей, креативной экономики меняет саму суть взаимоотношений между обществом и государством: хоронит государственный патернализм, создает реальную социально-экономическую основу демократии, обеспечивает подлинный национальный суверенитет – независимость страны в мире и граждан в стране.
Эти задачи не сводятся к тому, что делалось в России с начала 90-х годов – к демонтажу распределительного социализма советского типа (малый исторический цикл). Они означают проведение в необходимом объеме тех либеральных реформ, которые в российской истории неоднократно начинались, но так же регулярно выхолащивались или сменялись реакцией.
Масштабы и темпы преобразований, проведенных в России за последние полтора десятка лет, впечатляют и во многом превышают ожидания. Однако то, что осталось доделать – задача не менее масштабная. Это масштаб организационных способностей Столыпина и правовой философии Чичерина.
У России появился исторический шанс решить эти задачи. Возможно, шанс уникальный, поскольку он обусловлен редким историческим парадоксом.
* * *
Формирование в России новой рыночной экономики в определенный момент совпало с резким взлетом цен на энергоносители. Такое совпадение исторически случайно, но последствия его закономерны.
Главное из них – своеобразный характер капитализма, формирующегося в России.
Сверхкрупный, прежде всего банковский и нефтяной бизнес, являющийся во многом базисным, попытался создать олигархат, но политически усмирен и в целом подконтролен государству.
Параллельно развивающийся бизнес услуг и всего, что связано с перераспределением, относительно самостоятелен, но в достигнутых объемах стабилен только до тех пор, пока в стране циркулируют средства от сырьевых продаж.
Постоянно наращивается административный бизнес на ниве распределения и перераспределения бюджетных средств, а также изъятия административной ренты в форме легализованного или теневого государственного рэкета.
Наиболее яркие проекты в области реальной экономики и инноваций также в основном запускаются при прямом участии или решающей поддержке государства.
На этом фоне реальная экономика, представленная массовыми производствами в несырьевом секторе, находится в наихудшем положении.
Межотраслевая конкуренция между всеми этими категориями предпринимательства реализуется в форме борьбы за выживание. В складывающейся системе решающим фактором выживания оказывается не заинтересованность общества в результатах тех или иных бизнесов, а их способность выдерживать нарастающее административное давление. В такой ситуации реальные несырьевые производства соревнования с импортом и с перераспределяющими отраслями, как правило, не выдерживают и исчезают
[28]. Это тема для отдельного исследования: была ли когда-нибудь в истории России столь сильной зависимость от экспорта сырья – и, соответственно, достигала ли когда-нибудь страна таких масштабов свертывания массовых несырьевых производств, «подсадки» на импорт, включая огромную номенклатуру простейшего и сколько-нибудь технически сложного ширпотреба.
Но одновременно с этим Россия никогда в своей истории не оказывалась перед лицом столь серьезного риска –возможного обвала всего этого сырьевого благоденствия в обозримое время и в сжатые сроки. Принципиально другие скорости научно-технического развития и внедрения инноваций резко, до качественно иного уровня повышают вероятность предельно быстрого («исторически мгновенного») изменения ситуации на рынке сырья. Но в то же самое время благоприятная нефтяная конъюнктура последних лет делает нас все менее подготовленными к таким вариантам развития событий: распределительная бюрократия растет, а реальные производства на массовом уровне сжимаются, массовая технологическая культура становится все более неоднородной и в целом падает.
Тот факт, что, двигаясь в русле текущей конъюнктуры, мы идем в разрез с предотвращением опасной стратегической перспективы, вынуждает относиться к пересмотру курса с максимальной серьезностью и решать проблему кардинально. Иначе говоря, исторические задачи приходится решать как оперативные.
Это своего рода исторический искус: страна еще больше подсаживается на нефтяную «иглу», но при этом ей тут же показывают временной предел, за которым наркотик может в любой момент кончиться. Остается выбор: либо вводить в стратегическом планировании и в оперативных действиях жесткий «наркоконтроль» – либо готовиться к очередной «ломке» с непредсказуемым для страны исходом.
Создав столь острую ситуацию, требующую решения целого ряда хронических для России проблем, история как бы еще раз подталкивает многострадальную страну, но уже в тоне последних предупреждений.
Обратный отсчет начат, и пока время истекает быстрее, чем мы успеваем преодолеть собственные инерции. Это заставляет действовать активно и, чем меньше времени будет оставаться, тем более бескомпромиссно.
* * *
В условиях интенсивных целенаправленных изменений многое, если не все, решают качества человеческого материала, задействованного в процессе. Это относится и к управляющему звену, и к элитам, и к массовому сознанию.
В условиях реализации большого и сжатого во времени мегапроекта человеческий фактор по определению становится решающим. Какие бы правильные меры мы ни планировали и сколь бы продвинутые организационные схемы ни создавали, в конечном счете результат будет зависеть от нашего исторического кругозора, от готовности слышать вызовы времени и делать, что должно. Это проверка на способность не расслабляться там, где необходимо собрать волю и политическую работоспособность. Бывают моменты, когда от нации требуется проявить характер.
Это не духоподъемная риторика, а рациональный вывод: мегапроект не будет полным, пока мы не включим в него работу над собой, над интеллектуальным, духовным и нравственным самоизменением общества. Обычная ошибка: люди берутся исправлять действительность, не утруждаясь тем, чтобы разобраться в своих собственных проблемах и изменить в себе то, что изменить необходимо. Именно в таких случаях благие начинания реформ чаще всего вырождаются в самообман, а затем и в сознательную имитацию.
Основные задачи здесь в целом понятны.
Первое – это уровень понимания нами той общественно-политической и социально-экономической конструкции, в которой мы находимся и которую строим. Здесь необходим непредвзятый самоанализ в оценках сложившейся реальности и в обоснованиях модели, к которой мы стремимся. Это область «политической философии для массового употребления». Общество должно иметь рациональные представления о том, как мы живем, намерены жить, и почему так, а не иначе. Эти оценки и модели должны быть выражены, понятны и достоверны, по ним должен быть достигнут необходимый уровень согласия. Это не проект введения единомыслия, но констатация необходимости, во-первых, минимально необходимого консенсуса, а во-вторых, наличия самой дискуссии по базисным вопросам.
Далее, необходимо заново пересмотреть наши взаимоотношения с историей. Политическая модель должна быть понятным образом вписана в исторический процесс. При этом процесс должен рассматриваться не только в фактографии и оценках, но и как часть сознания и культуры, как инструмент саморазвития общества, то есть рефлексивно. Поэтому речь идет именно о «наши взаимоотношениях» с историей: дело не в том, чтобы еще раз перекроить и переоценить биографию страны и мира, на этот раз «единственно правильно», а в том, чтобы понять, как мы это делаем и какие уроки извлекаем. Проще говоря, недостаточно переписывать историю – надо еще учиться корректно к ней относится и правильно ей пользоваться.
И, наконец, система нравственных установок, общественная мораль. Когда речь идет об изменении базисных приоритетов и устранении препятствий развития, необходимо задействовать весь комплекс мотиваций, включая переоценку ценностей. Например, работа в производящих, креативных секторах экономики должна быть не только выгодной, но и престижной, повышающей социальный статус и самооценку. И наоборот, паразитарные практики в социальном плане должны быть максимально дискомфортными. Эти практики нельзя свести к минимуму только организационными, правовыми или даже репрессивными мерами, пока такого рода занятия не просто выгодны, но и позволяют сохранить лицо, иметь нормальный общественный статус.
В широком смысле слова все это – область идеологии. Однако для того чтобы нормально работать в идеологическом пространстве, прежде всего необходима известная реабилитация идеологии, формирование спокойного и рационального отношения к этому явлению. Нормальное, «рабочее» отношение к идеологии сейчас тем более важно, что перед страной стоит задача из разряда тех, что в условиях идеологического вакуума не решаются.
О НЕКОТОРЫХ НЕДОСТАТКАХ НАШЕЙ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
За десятилетия засилья коммунистического проекта в российском обществе сложилось устойчивое неприятие идеологии как таковой. Это можно было бы назвать «идеологической оскоминой», если бы проблема ни была глубже. При слове идеология у нормального постсоветского интеллигента рука все еще машинально тянется к пистолету.
Крушение коммунистического режима сопровождалось фейерверком деидеологизации. Однако когда дым рассеялся, выяснилось, что деидеологизация сама по себе является идеологическим мифом.
Прежде всего, деидеологизация в абсолютно строгом смысле слова невозможна даже чисто логически: отсутствие идеологии это тоже идеология
[29]. Это одинаково справедливо как на индивидуальном уровне, так и на уровне общества и государства.
Далее необходимо учитывать, что идеология имеет множество ипостасей
[30]. Если мы не видим ее там, где привыкли видеть – в трудах классиков, в учебниках по философии, в системе политпросвета и т.п. – это не значит, что она отсутствует как таковая и не транслируется в коммуникациях. Идеология может быть не артикулирована в специальных текстах, но при этом насквозь пронизывать культуру и массу текстов «неидеологических». Такая латентная идеология бывает весьма действенной – и более опасной (поскольку хуже контролируется обществом).
Если говорить о массовом сознании и стереотипах социального поведения, то и здесь у идеологии есть скрытые резервы. Часто люди, даже не выговаривая те или иные идеологические термины, ведут себя так, как если бы они имели четкие идеологические установки и исповедовали вполне определенные системы идей. В этом смысле можно говорить о своего рода «идеологическом бессознательном». Поскольку здесь сосредоточены скрытое манипулирование и неконтролируемые реакции, это также не только эффективная, но и особо опасная зона идеологического.
Все это желательно иметь в виду, чтобы не строить иллюзий по поводу деидеологизации, не оставлять идеологические инструменты неподконтрольными обществу, а наоборот, использовать их для решения назревших задач. Идеология слишком серьезное дело, чтобы доверять ее идеологам.
* * *
Прежде всего, необходим контроль над тем, чтобы государственная идеология не превращалась в идеологию власти, не становилась средством самоудовлетворения начальства, интеллектуальным десертом к спонтанно реализуемой политике. Диагностика здесь простая: в такую идеологию власть смотрится, как в льстивое зеркало, хотя вменяемая часть общества видит происходящее в совершенно ином свете, а действия, выдаваемые за спасительные, могут еще более заводить в тупик
[31].
Государственная идеология возможна, но только если она занимается не обслуживанием политиков, а обосновывает базисные политические принципы. Недопустимость огосударствления какой-либо частной идеологии, запрет на монополизацию идеологического пространства и дискурса, гарантии идеологического многообразия – все эти установки, в свою очередь, также исходят из вполне определенных идей и представлений. Если те или иные принципы заложены в Конституции, входят в кредо респектабельных политиков, представлены в международных обязательствах страны и т.д., общество должно иметь на этот счет не голые аксиомы, а внятные обоснования.
То же относится к политической модели в целом. Помимо формально-правовой, она должна иметь также и ментальную, в конечном счете, идеологическую легитимность. Такая легитимность достижима только при понимании:
– почему именно выбрана данная модель (например, та или иная модель демократии);
– какие перспективы для страны эта модель открывает и от каких срывов защищает;
– отличается ли она от стандартных прообразов; если да, то чем и почему;
– по каким индикаторам можно отслеживать, насколько адекватно данная модель воплощается в жизни;
– каким представляется процесс имплантации, «вживления» данной модели (с учетом переходных моментов, неоднородности развития и пр.).
При этом мы не можем в готовом виде заимствовать идеологические обоснования данной модели в западных концепциях демократии.
Там идеологически обустраивалось общество, уже построенное (или уже строившееся) на массовой производительной активности индивидов. Идеология не была пассивным оформлением этой прагматики, но она ухватывала суть строя, поддерживала реальные, перспективные тенденции, давала им дополнительные импульсы и выводила в лидеры
[32]. Поэтому многое здесь принимается в качестве постулатов, имеющих достаточно отвлеченные, «абсолютные» мотивации.
Мы же имеем дело с проектом. К тому же этот проект:
– встраивается в неоднозначную интеллектуальную и духовную традицию, но зато имеет в национальной истории и культуре богатый опыт прямо противоположного толка;
– противоречит многим текущим интересам, ментальности, нормам обычного права, сложившимся практикам, организационным схемам и т.п.;
– во многом идет в разрез с пусть временной, но сильной технологической и внешнеэкономической конъюнктурой.
В таких условиях обоснования демократии в абсолютных системах координат (природа человека, универсальные политические модели, оптимальные вне времени и пространства и т.п.) не работают или, как минимум, оказываются недостаточными. Постоянно мешают дистанция между ними и реальностью и, как следствие, известная условность этих постулатов, принимаемая по умолчанию. Все это создает предпосылки для формального отношения к избранным принципам. Также по умолчанию предполагается, что модель вводится с некоторыми неопределенными отклонениями и в течение неопределенного времени.
Иначе обстоит дело с идеологическими обоснованиями, привязанными, во-первых, к реальному времени и месту, к определенным обстоятельствам, а во-вторых, к решению конкретных прагматических задач
[33]. Здесь сразу становится понятным, почему выбираются те или иные модели, зачем нужны намечаемые преобразования, что в этих моделях и реформах необходимо акцентировать, какими средствами поставленные задачи планируется решать, в какие сроки предстоит уложиться. Это не столь жестко привязывает к образцам, на зато оставляем минимум шансов для имитации, разного рода условностей, умолчаний и прочего идеологического подмигивания.
Такой подход также позволяет начать восстановление разрушенной идеологической коммуникации. В стране практически отсутствует диалог, элементы нормальной дискуссии. Все говорят, но слышат только себя, есть ряд монологов, но нет разговора. Если полемика и возникает, то исключительно «на поражение».
Это во многом объясняется особенностями политической борьбы, но также и принципиальной несходимостью постулатов. Позиции не сходятся даже тогда, когда формально провозглашаются одни и те же принципы.
Но коммуникация обычно налаживается, когда начинают обсуждаться конкретные, сугубо прагматические задачи
[34]. Все, как в жизни: когда надо починить крышу или зарыть канаву, люди забывают, кто «белый», а кто «красный».
Все это справедливо и в отношении глобальной идеологической коммуникации. Постсовременная философия и культура вообще весьма критичны в отношении всякого рода норм, представляемых их особо цивилизованными носителями в качестве общечеловеческих универсалий. При всех достижениях глобализации мир все еще состоит из достаточно самоценных цивилизаций и культур, не так просто поддающихся политической унификации, как это казалось в свое время, в эпоху политического модернизма
[35].
Понимание этого привело к тому, что идеологическое миссионерство начало уступать место своего рода рынку идеологий. На смену идеологическим конквистадорам приходят идеологические коммивояжеры. Демократию и либеральные конструкции одни предлагают, а другие принимают не в форме откровения высших рас, окормляющих остальное, политически инфантильное человечество, а как эффективный инструмент решения вполне прагматических задач: запуска и развития современного массового производства, включения в мировой информационный и технологический обмен, ненасильственной мобилизации населения через свободу, право и ответственность и т.д. и т.п.
Такое отношение к демократии корректно для «торгующих идеологией» (поскольку не отпугивает клиента высокомерием продавца) и весьма полезно для самих пользователей. Когда демократию берут, как чужую икону, ее чаще всего ставят в красный угол – и продолжают грешить по-прежнему. Если же демократию принимают как инструмент решения практических, а тем более наболевших проблем, то и отношение к ней становится инструментальным: от нее требуют, чтобы она реально работала, а не украшала политические вывески.
УРОКИ ИСТОРИИ
Наряду с принципами функционирования и развития общества классической темой идеологических разработок является история. Погружая проекты и нормы в историческую реальность, мы делаем более понятным, насколько эти нормы органичны и приемлемы для истории данного общества, какой ценой предлагаемые проекты в ней реализуемы. Поэтому исторический срез является неотъемлемой частью мегапроекта.
Направленность мегапроекта выдвигает специфические задачи перед историей. Приоритеты планируемых изменений формулируют вопросы к прошлому:
– как складывалась и что значила в биографии России сырьевая ориентация экономики, как она повлияла на политическое развитие страны, тип российской государственности и характерное для нее отношение к населению?
– как в истории России развивались реальные производства; что стимулировало или, наоборот, сдерживало напор инноваций; в какой мере и как именно эти тренды повлияли на тип экономики и социально-политические характеристики российского общества?
– в каком состоянии в этом плане мы подходим к настоящему моменту; какие технологические, экономические и политические тенденции в последнее время набирают силу или, наоборот, идут на убыль?
В понимании национальной истории эти обстоятельства являются не менее системообразующими и обладают не меньшей объяснительной силой, чем чужеземное иго, суровый климат или растянутая территория. В контексте данного мегапроекта они особенно актуальны.
* * *
Историю преподают и учат «от прошлого к настоящему». Для идеологии в целом и для мегапроекта в частности более продуктивен обратный отсчет. В этом смысле история начинается сегодня. Далее, через периоды близкой исторической памяти она продвигается вглубь прошлого, позволяя понять не только «что есть», но и «как это стало».
В канун перестройки Ю.В.Андропов сделал эпохальное заявление: мы не знаем общества, в котором живем. Что последовало за этим незнанием, известно.
С тех пор многое изменилось, но проблема не снята. Особенно, если учесть, что здесь необходимо прежде всего понимание, а не только объем информации. Такое понимание является ключевым для идеологии, если она претендует на осмысленное согласие в отношении ключевых проблем, целей и путей развития, а не на внушение иллюзий.
Для идеологии мегапроекта понимание новейшей истории является точкой опоры. Если знание о реалиях, от которых мы в данный момент отталкиваемся, будет достоверным, есть шанс взять высоту; если же почва отталкивания окажется рыхлой, велика вероятность упасть еще перед планкой.
Первая иллюзия, от которой надо избавиться – преувеличенные представления о том, насколько наше знание о постсоветском и нынешнем российском обществе полно, а понимание – корректно. Достаточно того, что на уровнях разговора, менее общих, чем «суверенная демократия», у нас практически нет даже имен – терминов и определений для характеристики складывающейся системы.
Проблема усугубляется тем, что в российском обществе формируются зоны, гораздо более закрытые, чем это кажется на первый взгляд. Причем это как раз те зоны повседневных властных отношений, которые критически важны для целей мегапроекта, в частности – для массового запуска несырьевого, креативного сектора и адекватных ему социальных, правовых отношений. То, что у нас связывают с теневой экономикой, коррупцией и т.п., в действительности образует гораздо более обширную зону «тени». Помимо теневых финансовых потоков, экономика бюрократии выстраивает схемы теневого регулирования и администрирования, теневые стратегии развития
[36]. В критических для системы ситуациях дело доходит до теневой политики, реализуемой в соответствующих сферах ведения в явном противоречии с интересами общества и государства. Все это приобретает черты органической составляющей формирующейся системы отношений, принципиально иные масштабы и куда более развитые, изощренные формы, чем принято считать. Распространенность и роль этих практик уже таковы, что впору говорить о формировании в России теневого социума, в котором производящий, креативный сектор наименее конкурентоспособен, а во многом и просто нелегитимен.
Повышенное внимание к «теневой стороне» власти в ее повседневных взаимоотношениях с индивидами вызвано не только спецификой ситуации в России. В этом плане идеологические особенности мегапроекта совпадают с наиболее глубокими и перспективными тенденциями в современном историческом и социальном знании в целом
[37].
Такое совпадение не случайно. Стремление понять социум через «микрофизику власти», в особенности в ее прямом и повседневном воздействии на индивидов, естественно для цивилизации, построенной на созидательной активности этих самых индивидов. Но подобные акценты, возможно, еще более актуальны в осмыслении современного российского общества, для которого одним из главных вопросов исторической повестки дня является создание нового базиса на основе индивидуальной инициативы и массовой производительной активности населения.
Таким образом, дело отнюдь не сводится к расширению предмета или к новой методологии исследования. Это именно мировоззренческий горизонт. Здесь мы одновременно подхватываем обе взаимосвязанные тенденции: опыт производящей, креативной цивилизации – и новые парадигмы исторического знания.
Для идеологии последнее особенно важно: все понимают, что нам необходим новый взгляд на историю, но пока нет общего понимания, что этот взгляд должен выражать
[38].
* * *
Обычно новое идеологическое прочтение истории сводится к пересмотру фактографии, а в главном – к переоценке описываемых событий. Однако масштаб идеологических задач мегапроекта требует более глубоких изменений во взгляде на историю, чем простое переписывание «прошлого страны» (автобиография) или смена цитируемых авторитетов в толковании и оценках прошлого (хрестоматия).
В упрощенных вариантах ревизия истории меняет историческое повествование и политические оценки, но не понимание того, как история устроена в принципе. За пределами идеологии остается взгляд на историю как на особым образом организованный процесс, со своими закономерностями и капризами. Но именно эти свойства истории сейчас наиболее важны для идеологии мегапроекта и стратегий его реализации. Для страны, входящей в мегапроект, крайне важно знать не только «что было», но и что в истории возможно, а что обречено, как надлежит действовать, чтобы получить результат и не попасть в очередную ловушку благих пожеланий.
В этом плане сейчас многое меняется, как в самой истории, так и в ее осмыслении. Поэтому потребности мегапроекта заставляют нас обратиться к инновационным процессам в историческом знании, к изменениям парадигмы исторического мышления, имеющим прямые выходы на идеологию и политику
[39].
* * *
Выше уже отмечалось, что мегапроект – предприятие всегда рискованное. Особо убедительно это подтвердилось в недавнем прошлом: предыдущий век без преувеличения можно назвать веком мегапроектов.
Опыт показывает, что регулярные сложности, а то и провалы феерически начинавшихся Больших Планов обусловлены скачками в развитии, попытками перепрыгнуть этапы эволюции.
Разглядеть эту эволюцию – отдельная задача. Современная наука меняет представление об историческом процессе как таковом. Быстрая история – «хроника событий» – дополняется историей медленных ритмов и длинных волн, изменений сферы обыденного, практик повседневности
[40]. Такие изменения не видны непосредственно, подобно движению часовой стрелки, но при этом они весьма серьезно (хотя и не всегда явным образом) влияют своими инерциями на ход событий, а тем более на судьбу масштабных начинаний.
Эти откровения науки заслуживают того, чтобы быть освоенными идеологией, историческим мировоззрением, стратегическим планированием и реальной политикой. Такой подход показывает, какой глубины должно быть историческое и политическое действие, чтобы иметь шансы на успех.
Прежде всего, здесь важны представления о том, что история многослойна и в разных слоях историческое время движется с разной скоростью
[41]. Для того, чтобы политическое действие было успешным, необходим определенный уровень согласования и синхронизации этих изменений, работа во всей толще культуры. В противном случае возникает критическая асинхронность движения в разных слоях, чреватая опасными напряжениями, вплоть до разрывов «социального тела». Здесь и появляются поверхностные политические модели, не укорененные в повседневной жизни и укладах сознания, социально-экономические проекты, лишенные общественного доверия и массовых навыков, научно-технические программы, не обеспеченные массовой производственной культурой и технологической базой.
Есть и обратная закономерность: то, что удалось закрепить на глубинных уровнях сознания и практик, если и удается вытравить, то с большим трудом.
Для мегапроекта эти уроки крайне важны. Они многое проясняют в понимании политически актуальной истории России, в истории «близкой исторической памяти», а также в оценке новейших тенденций и программ
[42]. В назревающем мегапроекте мы уже сталкиваемся со столь характерными для нашей истории эффектами асинхронности, с крайне неравномерным распределением внимания между «направлениями главного удара» и медленно эволюционирующей рутиной. Здесь особенно важны печальные уроки реформ, зацикленных на макрополитике и социальной инженерии и не затрагивавших сферы обыденных отношений и практик повседневности.
Тем более этим необходимо заниматься, поскольку в разных слоях эволюции мы сейчас наблюдаем не просто разные скорости, но и разную направленность изменений, а порой и вовсе противоположные векторы. Если верхние, видимые слои мегапроекта обозначают движение к демократии, несырьевой экономике и инновациям, то на «почве» повседневных практик ощущается дыхание бюрократического реванша и административной реакции. Страна опять идет «на разрыв».
Инновационный рывок также может попасть в ловушку асинхронности и увязнуть в глубинных инерциях. Поход за высокими технологиями, наукоемкими производствами и даже просто за реальной экономикой может в экономическом и технологическом срезах повторить политический цикл хрущевской оттепели. И тогда нанотехнологии останутся в народной памяти «кукурузой XXI-ого века».
Вместе с тем, глубинные слои сознания и практик сами становятся более динамичными и податливыми на изменения, подверженными ускоренной, иногда стремительной эволюции. Это связано и новыми возможностями социальной инженерии, и с совершенно другой динамикой изменения массового сознания и укладов.
Поэтому в сложившейся ситуации есть сложности, но нет ничего фатального. Если, конечно, внимательно относиться к урокам истории.
* * *
Идеология мегапроекта основывается также на неклассических представлениях о том, каким образом история детерминирована, насколько она ограничена руслом закономерностей или, наоборот, зависит от случайных и слабо прогнозируемых событий.
Пафос мегапроекта нельзя адекватно воспринять, оставаясь в рамках представлений об истории как о движении, с одной стороны, упорядоченном и закономерном, а с другой – управляемом. В такой картине мира история до сих пор рисуется процессом надежным и достаточно инерционным, не способным на непредсказуемые взрывные сюрпризы. Если что-то эпохальное должно произойти, то к этому будут подводить наблюдаемые тенденции, дающие время сориентироваться и подготовиться. Кроме того, это «что-то» будет иметь понятные причины, на которые можно либо воздействовать, либо перебивать их другими, более сильными причинами
[43].
Здесь важна не только логика, но и общее мироощущение, мирочувствие. Такая история кажется более комфортной и менее опасной, чем это есть на самом деле. Это снижает тонус и дезориентирует. Рассчитывая на относительно спокойное развитие событий, люди не дают себе труда считать реальные риски и своим бездействием сами создают ситуации, в которых течение истории способно взрываться, резко меняя русло.
Вместе с тем, в современной картине мира это благодушие нарушается логикой бифуркационных процессов. Такие процессы периодически оказываются перед судьбоносными развилками, которые ветвятся в «каскадах бифуркаций» и в результате в предельно сжатые сроки уводят в качественно новые, порой совершенно неожиданные состояния. Особенность такого рода процессов состоит в том, что бифуркации в обычной логике непредсказуемы; здесь не работает ни жесткая причинно-следственная схема, ни даже обычные вероятностные представления. Работает схема «черного ящика», в котором малые сигналы на входе дают сверхсильные, непредсказуемые эффекты на выходе.
Такого рода взгляды многое меняют как в историческом понимании, так и в прогностике, в стратегическом и даже тактическом планировании. Нам необходимо осваивать культуру взаимоотношений с прошлым – но также и культуру работы с будущим. Историческая почва, по которой мы идем, уже не так надежна, как кажется. Вместо того, чтобы успокаивать себя, экстраполируя в будущее нынешние тенденции, требуется постоянно работать над тем, чтобы снижать вероятность возникновения острых бифуркационных ситуаций, в которых возможны самые неожиданные развороты, в том числе – в крайне нежелательных направлениях.
Это в корне меняет представления об исторической и политической ответственности. Революции делают революционеры, но почву для них создают те, кто упускает возможность своевременного проведения необходимых эволюционных преобразований. Великие государства в одночасье разваливают конкретные политики, но предпосылки для этого создают те, кто до этого правил «как удобно», а не в расчете на худшие, порой кажущиеся совершенно невероятными сценарии.
Это требует, с одной стороны, умения создавать как можно меньше положений, чреватых плохо предсказуемыми каскадами бифуркаций, а с другой – нарабатывать запас прочности на случай пусть даже маловероятных, но судьбоносных вариантов развития событий. Теперь надо понимать, что мы живем в другой истории – все менее надежной и ответственной по отношению к человеку, а потому требующей от человека гораздо большей ответственности в отношении собственной судьбы.
Востребованность мегапроекта обусловлена именно этой логикой. Перспективы мощных бифуркаций, теперь уже глобального уровня, не позволяют утешать себя отдельными позитивными трендами, а в отношении предстоящих рисков рассчитывать на дальнейшую плавную эволюцию, по сути дела – на «авось».
В этой парадигме совершенно иначе смотрятся оценки того, в чем мы еще успеваем, а где уже опасно опаздываем.
МЕГАПРОЕКТ И АРХЕТИПЫ КУЛЬТУРЫ
Мегапроект, как и всякий план, есть некое «изображение» – того, что должно получиться и как мы к этому планируем прийти.
В этом образе уже проступает существенно иная экономика – производства, а не распределения. Другая этика – созидания, а не проедания ресурсов. Другой социум – общество граждан, а не пассивного социального «материала». Другая демократия – демократия жизни, а не борьбы, повседневных отношений с властью, а не только выборов или дебатов. Другой суверенитет – суверенитет не власти, а ее источника.
Но в этом изображении проступают также иные стереотипы культуры, ценности и нравственные ориентиры.
Это вопрос меры. Если бы мегапроекту был нужен «другой народ» и «другой человек», такой проект был бы заранее обречен: у нас нет для мегапроекта другого народа. Но если бы замысел не требовал от нас усилий по самоизменению, такой план был бы обречен ничуть не меньше.
Итак, мегапроект формирует заказ на выполнение определенной интеллектуальной, духовной, нравственной работы, усилий в области общественного сознания, коллективной совести и даже национального характера
[44].
Поскольку речь идет о картине мира и этике нашего проживания в этом мире, задача выходит за пределы местного значения. Все это происходит в постсовременную эпоху, когда цивилизация пересматривает собственные основания, проводит фундаментальную переоценку ценностей, ревизию базовых стереотипов культуры.
Это важно, поскольку необходимо видеть, в чем мы пересматриваем общецивилизационные установки, в чем – стереотипы российской культуры и цивилизации, где речь идет о завершении декоммунизации, а в чем приходится изживать благоприобретенное за время последних реформ. Это не просто разные слои культуры и разные длительности эволюции – это еще и разные инструменты.
Большое и малое
Одна из характерных черт постсовременной парадигмы – реабилитация малого. Многовековая тяга к укрупнению, вплоть до тотальной гигантомании исчерпывает себя. Тяга к формированию большого ценой подавления малого себя уже исчерпала. Малое экологично и адаптивно, креативно и динамично. Оно самоценно, поскольку приближено к человеку, соразмерно ему. Оно экономично, поскольку не обременено непроизводительными надстройками, и по определению производительно, поскольку оставляет минимум возможностей для паразитарных стратегий. Все это – обычные и уже не самые новые постулаты того, что называется мегатрендами цивилизации.
Если с этой точки зрения посмотреть на габариты элементов, из которых мы начинаем собирать «новую Россию», неизжитая любовь к большому при вопиющем неуважении к малому проявит себя в полную силу. Здесь важен общий образ, а он виден, например, в телевизоре, в «картинках» новостей. Труба на половину Азии, новые суперкорпорации, глобальные жесты в сфере геополитики. В этой образной системе даже нанотехнологии выглядят чем-то гигантским. Малое в этой картинке если и присутствует, то в виде развлекательного гарнира; оно интересно как случай из жизни, но не как кирпичик фундамента, на котором строится и стоит страна.
В этом виден определенный вкус, в соответствии с которым «архитектура страны» – это крупнопанельное домостроение и нечеловечески растянутые планировки. В таких технологиях работают высотные краны, а не мастера индивидуальной кладки; из таких пространств человека выдувают сквозные ветра. Все это очень некомфортно и несовременно, однако этот стереотип до сих пор проявляется буквально во всем, в самой стилистике нашего управленческого дизайна.
Поэтому, в частности, неудивительно, что программы поддержки и развития малого бизнеса у нас запускаются по остаточному принципу, из года в год оказываясь самыми провальными. Об этом говорят, но между делом; к этому не относятся, как к провалу стратегическому. Вместе с тем, вопиющие диспропорции большого и малого в структуре нашей экономики не оставляют надежд на решение основных задач мегапроекта.
Аналогична образная система планов преодоления нефтяной зависимости, продвижения в будущее высоких технологий, наукоемких производств и пр. Все выглядит таким образом, что ставка делается на несколько сверхкрупных программ, а не на создание среды, в которой страну смогут вытянуть сотни тысяч проектов малого и среднего масштаба.
Такого рода настроение сквозит буквально во всем. Поэтому речь не об отдельных моментах, а об изменении самих принципов стратегического мышления, о новой «эстетике» отношения к жизни и планов ее совершенствования.
Гордость и стыд
Стране возвращают самоуважение.
После десятилетия безответной самокритики и моральных самоистязаний это отчасти естественно и понятно. Однако в представлениях о национальном достоинстве все еще проступают черты советской гордыни.
В данном случае речь не о «скромности», о которой писалось в «Параграфах».
Достоинство общества, как и человека, складывается из противоположных составляющих: из наличия предметов гордости – и отсутствия предметов стыда.
У советских была собственная гордость, но поддерживалась она как достижениями, так и запретом иностранцам отъезжать от Москвы за сорок километров. От чужих глаз скрывались не военно-стратегические объекты (уже давно нанесенные на карты всех потенциальных противников): страшной тайной Страны Советов было качество жизни и среды обитания вне отдельных показательных зон, в целом по стране.
В этом примере – особенный принцип поддержания национального (да и личного) достоинства и самоуважения: украшать себя отдельными подвигами, прорывами и прочими выдающимися достижениями – и закрывать глаза на все недостойное и позорное, не прикладывая особых усилий, чтобы его изжить. В более глубинных формах это выливается в не проговариваемую, но последовательно исповедуемую идею автоиндульгенции – искупления повального грехопадения отдельными подвигами святости.
Здесь проступает мощный стереотип российской культуры, в которой веками соседствуют блеск и грязь, высоты духа и низость жизни, коллективные подвиги и массовые предательства, трудовые деяния и повальная лень. Это запечатлено в соседстве столиц и глухомани, «окон в Европу» и дикой азиатчины, в сочетании массовой безграмотности и высочайшей литературы, научных прорывов и архаичности массовых производств.
Теперь иногда вновь становится видно желание вернуть стране самоуважение очередной выставкой достижений «антинародного хозяйства», своим блеском делающей менее заметным то, с чем мириться не пристало.
Эффективность такого пиара различна в разных отношениях.
Эти образы легко возвращают самоуважение власти, когда она сама себе рапортует об очередном ярком достижении или еще более ярком начинании.
На публику они действуют уже не так однозначно
[45].
В плане постановки и реализации мегапроекта этот стереотип срабатывает либо никак, а чаще отрицательно. Он «замыливает» остроту проблем и добавляет к нефтяной «игле» наркотик искусственно подогреваемого самодовольства.
Исторический вызов требует иной психологии. Перспективу потенциального и уже назревающего кризиса нельзя сузить стратегией показательных достижений. Необходима стратегия изживания постыдного. Авиация пятого, шестого и пр. поколений для самооценки страны значит меньше, чем ее неспособность собрать автомобиль не хуже, чем у наших соседей по дальнему востоку или хотя бы в ближневосточном зарубежье. То, что мы еще сохранили конкурентные позиции в материаловедении, в плане самооценки обесценивается тем, что мы втридорога закупаем мебель из нашего же кругляка.
Изжить гордыню России не дает геостратегия. И это было бы нормально, если бы одновременно мы изживали образ безрукой страны при рукастом населении.
В этом есть определенная моральная установка, причем не новая. Но эту установку сейчас делает актуальной не субъективное желание, а вызовы постсовременной цивилизации и, в особенности, условия, в которых Россия может оказаться через два-три десятка лет.
В этом смысле национальная идея в жанре «Поправь забор!» была бы для нас куда более актуальной, чем новые экспедиции в космос или микромир. И, похоже, труднее реализуемой.
Работа и нахлебничество
Характерная наша поговорка: «Один с сошкой, семеро с ложкой». Народная мудрость: «От трудов праведных не построишь палат каменных». Это и многое подобное – свидетельства укорененных архетипов сознания, с которыми проблематично выходить из создавшегося положения и запускать производящую, созидательную экономику.
Это именно архетип: в нашей социальной культуре человек производящий никогда не занимал достойного места. Даже советская пропаганда со всеми ее величальными в честь Человека Труда не сломала этого отношения
[46]. Скорее наоборот, именно советский период во многом довел до совершенства стратегии безответственного руководства и покровительственного нахлебничества.
С этой точки зрения армия бесчисленных регуляторов, инспекторов, сертификаторов и т.п. – не более чем новое псевдорыночное издание старого всесоюзного партийного паразитария. Издание, сильно ограниченное по статусу, отчасти по количеству мест, но резко расширенное по материальным запросам. Главное же в том, что сохранились основные атрибуты этого типа властных отношений: произвол одних при бесправии других, безответственность руководящих при безответности руководимых.
Но есть и разница. Советская система концентрировала произвол и безответственность, во-первых, в заповеднике собственно партийного руководства, а во-вторых, в высших эшелонах власти; при этом «руководящие низы» испытывали на себе все прелести функционирования в качестве приводных ремней и винтиков партийной мегамашины. Теперь же эта вертикаль перевернулась. Верхние этажи системы управления во многом соединили в себе политическое руководство и собственно управление, оказались более на свету, стали более прозрачными и плотнее завязанными на ответственность. В свою очередь безответственность и доходное самоуправство сконцентрировались в основном в средней и низовой бюрократии (проблему «восходящих потоков» здесь не обсуждаем).
С точки зрения воспитательного эффекта это хуже: заразные контакты с населением становятся более прямыми и множественными. Паразитарные практики и их носители вызывают глухую ненависть производящего слоя, но в плохо пристроенных социальных слоях эта ненависть органично сочетается с желанием при случае встроиться в систему. Особенно это характерно для районов, в которых другие возможности приличного трудоустройства призрачны или вовсе отсутствуют. В этой конструкции распределительная экономика опасна вдвойне: народ портится.
Возможности морального воздействия на ситуацию и этического регулирования в целом в нашем обществе существенно дискредитированы – и материалистической идеологией, и фарисейством идеологов, и неспособностью государства справиться даже с преступлениями во власти, даже силой закона и правоохранительных органов. На этом фоне инструменты убеждения и морального осуждения кажутся и вовсе бессильными.
Если в обществе не действуют моральные факторы, это общество называется деморализованным – в широком смысле слова. Вместе с тем, масштабы этой тенденции не надо преувеличивать. Если с некоторых пор с некоторыми инструментами мы не работаем, это не значит, что эти инструменты не работают как таковые. Тем более инструменты не виноваты, если мы ими неправильно пользуемся.
В частности, мешает неразобранность моральных ситуаций, попытки осудить то или иное явление недифференцированно, одним приговором. Поскольку моральные ситуации – дело особенно тонкое, недоучет даже весьма тонких нюансов может во многом обесценить целое. Моральные факторы работают, только если общество в отношении данных оценок достаточно консолидировано. Если же к отдельным аспектам того или иного явления общество относится с пониманием, то за это понимание будут прятаться и остальные участники данного паразитарного сообщества, в том числе вызывающие со стороны общества предельно резкое осуждение.
Когда представитель ГАИ берет взятку за нарушение правил, это совместное деяние инспектора и водителя. Здесь наказание превращается в род платной услуги: размер штрафа, как правило, уменьшается, экономится время на оплате через сберкассу и т.д. Инспектор и водитель, столкнувшись поначалу как противники и даже враги, в итоге расстаются друзьями
[47]. После этого можно сколько угодно осуждать взятки на дорогах, то есть явление как таковое. Результат будет нулевым, пока в той же категории моральных оценок обществу будут предлагаться и совершенно другие ситуации, например, когда нарушения отсутствуют или специально провоцируются (типичный случай – засада возле вновь установленного знака, в особенности, если этот знак неадекватен и реально ухудшает условия движения).
За этими частными примерами встает более общая, системная проблема. Прежде всего, если что-то конкретное и попадает в поле зрения правоохранительных органов, СМИ и широкой общественности, то это прежде всего коррупционные ситуации, требующие от представителей власти не вполне стандартных решений. Практически не отслеживается повседневная, обыденная коррупция, когда плата берется за сам факт функционирования (например, контрольно-надзорными органами в сфере технического регулирования).
Кроме того, есть паразитарные и коррупционные практики, с которыми общество находится, как минимум, в неоднозначных отношениях. Такие практики обычно встроены в систему, а потому для их искоренения требуются не моральные и даже не оперативные меры, а именно системные решения. Например, в сфере технического регулирования при существующей нормативной базе работать без нарушений практически невозможно. Все это понимают, но пользуются ситуацией по-разному. Поскольку расплачиваться придется в любом случае, люди перестают выполнять даже то, что выполнить реально могли бы. А поскольку взятка или иная форма оплаты «нормальных» взаимоотношений представителем власти принимается, на эти необязательные и даже специальные нарушения также закрываются глаза. Эта проблема решаема только системными мерами, в частности, кардинальной распаковкой нормативной базы – формированием реально выполнимого и исчерпывающего, закрытого перечня прозрачных требований.
Но есть категории паразитарных практик, условия для которых создаются искусственно
[48], а потому они всем безусловно мешают и ровно никакого понимания, а тем более поддержки в обществе не имеют (кроме специально прикармливаемого бизнеса, имеющего льготы в обмен на «общественную» поддержку).
Это – явные приоритеты на изживание, как с точки зрения наносимого вреда, так и в плане минимально требуемых усилий. Как правило, эти практики так или иначе легализованы, а значит, на виду. Более того, они общеизвестны, например, в виде целенаправленно возводимых административных барьеров. Они, как правило, достаточно брутальны и в целом бесхитростны. Если воспользоваться аналогией с дорожным движением, то это как если бы целые подразделения ГИБДД у всех на глазах создавали пробки и громоздили завалы на дорогах, собирая плату за проезд по специально оборудованным дублерам.
В таких ситуациях публичные разбирательства и общественные моральные оценки, как ни странно, могут быть первичными по отношению к собственно правовым и организационным мерам и даже более эффективными.
Во-первых, моральные оценки здесь достаточно однозначны. В отличие от чиновника, берущего взятки «попутно» и по обоюдному согласию с взяткодателем, это отдельный, специально организованный бизнес, никакого ответного интереса у обираемых не вызывающий. В сравнении с бизнесом производящих или торговых предприятий, это схемы, как уже говорилось, достаточно простые, часто оскорбительно прямолинейные и примитивные
[49]. В осведомленной части сообщества общепризнано, что это бизнес для тупых и ленивых (хотя для противодействия реформам в отстаивании этого бизнеса часто проявляется редкая энергия и изобретательность). Такой бизнес особо аморален, поскольку основан на поборах с себе подобных, к тому же с использованием непонятным образом приватизированного административного ресурса. Занятие таким бизнесом и его поддержка вполне заслуживают тотального общественного осуждения, причем уничижительного. При достаточно организованной публичной политике такого рода практики и их поддержка превращаются в удел париев, с которыми в нормальном бизнесе не принято здороваться. И такая общественная нетерпимость действует, даже если выгодные схемы еще остаются и приносят доход. При достаточно внятных критериях идентификации такого рода паразитарных практик их носителям становится неудобным появляться в приличном обществе. А для людей с определенным общественным статусом это уже серьезно.
Во-вторых, (и, возможно, это главное) публичная общественная оценка такого рода практик оказывает сильное стимулирующее воздействие на саму исполнительную власть, на руководящие инстанции, в ведении которых развивается данный бизнес. На руководство ГИБДД обвинения ведомства в коррупционности так или иначе действуют – даже при общем понимании, что в одночасье покончить с явлением нереально. В то же время целый ряд ведомств тихо культивирует под своей опекой развитые системы на порядок более вредоносных предприятий, которые могут быть уничтожены росчерком пера и без каких либо осложняющих последствий (не считая трудоустройства чьих-то родственников). Соответствующие общественные программы вполне в состоянии стимулировать и политическую волю, направленную на решение этих крайне важных, но не самых сложных проблем, и адекватные административные действия со стороны руководства исполнительной власти и отдельных ее органов.
Однако за этими локальными, хотя и первоочередными мерами стоят более глубокие задачи по переоценке стереотипов сознания и моральных ценностей. Необходимо предельно внимательное, а при необходимости и жестко критичное отношение к стратегиям потребления и перераспределения, к тактикам использования того, что близко лежит и требует минимума усилий для выгодной утилизации. Соответственно, необходима всестороння поддержка стратегий, ориентированных на производительность, на максимальный эффект от вклада человеческого интеллекта и труда. Здесь стереотипы взаимоотношений с согражданами перерастают в новые стандарты отношения к обществу в целом, к стране, к среде обитания, совпадают с базовыми мегатрендами цивилизации. На всех этих уровнях паразитарные стратегии одинаково аморальны – и одинаково губительны.
Если же вновь «опуститься на землю» и определять первоочередные меры, то в контексте мегапроекта необходимы мощные программы не только финансово-организационной, но и немеркантильной, «морально-политической» поддержки производительного сектора, вывод его на лидирующие позиции в том числе и в плане общественного статуса, в приоритеты политического и стратегического значения.
Проекты и жизнь
Выше уже подчеркивалось, что мегапроекты – начинания опасные, хотя порой и вынужденные.
В фундаментальной переоценке ценностей, которой сейчас занята постсовременная цивилизация, одним из главных, если не главным предметом является именно проектно-преобразовательный пафос – представление о том, что близкий к идеальному результат может быть получен решительным и бескомпромиссным переустройством действительности по рационально организованному проекту. Итогом такой переоценки стало понимание того, что подчинение действительности какому-либо тотальному плану ужасно, независимо от качества этого плана, поскольку обрекает человека на жизнь в «макете», хотя и реализованном в натуральную величину.
Проблема была практически не видна, пока проектно-преобразовательные возможности человека были ограничены, а пространство дальнейшей экспансии – обширным. Но проблема стала критичной, когда на пике этой тенденции человечество столкнулось с экологическим кризисом, перспективой самоуничтожения, ужасами социальной инженерии, наконец, просто с несостоятельностью тотально запрограммированной среды обитания. Политическим апофеозом проектной цивилизации в ХХ веке оказались два тоталитарных колосса, столкнувшиеся в крупнейшей в истории человечества войне.
Для России эта проблема является даже более острой, чем для того ареала европейской цивилизации, где проектно-преобразовательная установка возникла и развивалась. Именно у нас, в нашем коммунистическом проекте, эта европейская установка была реализована с поистине русским размахом, отсутствием меры и сдерживающих начал. В этом мы оказались западнее Запада.
Проектный запал в нашей истории также особо подогревался потребностью в скачках догоняющей модернизации. Сформировался стандартный цикл: кризис отставания – догоняющий проект с претензией на обгон – неизбежная реакция на мобилизационный рывок и как следствие… новая фаза отставания.
Беспристрастная оценка того, что происходит сейчас в России, навевает одно: как все похоже! Опять очередной рывок догоняющей модернизации оформляется прежде всего как ряд проектов, претендующих на рациональную осмысленность и реализуемых исключительно волевым усилием, в формате выполнения управленческих решений.
Есть некоторые обнадеживающие отличия. Петр строил новую Россию на костях. Большевики провели индустриализацию ценой ограбления внутренней колонии с элементами геноцида. Сейчас мы оплачиваем очередной проект догоняющей модернизации эксплуатацией своей природы и чужих энергетических потребностей.
Кроме того, в отдельных идеологических фрагментах и в проектах отдельных реформ уже проступает понимание необходимости прежде всего устранить факторы, мешающие движению и порождающие отставание, сбросить организационный балласт, обрекающий на отставание и догоняющие броски. И в то же время видны поползновения к тому, чтобы ускориться, еще раз продвинув страну вперед мощными проектами, а не освободив ее от тормозящего груза. Если эта тенденция возобладает, мы опять выйдем на соревнование с историей и соседями по планете в плохой форме, в путах и с балластом, но с допингом.
Задачи, которую жизнь ставит перед страной на ближайшие десятилетия, так не решаются. Цивилизация искусственных силовых прорывов и мобилизационных проектов себя исчерпала, и не только в России. Наоборот, именно там, где удается максимально избавиться от лишнего груза, выстроить национальную программу как программу создания оптимальных условий, а не как умозрительный, спускаемый сверху проект, результаты бывают ошеломительными.
В этом смысле мегапроект, который сейчас жизненно необходим России, должен в полной мере учитывать как антипроектные мегатренды цивилизации в целом, так и застарелые, кажущиеся уже почти неизбывными архетипы российского проектного мышления.
Такой мегапроект должен включать в себя фундаментальную критику избыточной и искусственной проектности, ее практическое ограничение, воспитание экзистенциального доверия к жизни в ее неплановых проявлениях, в ее несовершенных, но естественно сбалансированных воплощениях.
Страна и люди
Российская история – это история государства, интересы которого неизмеримо выше интересов отдельных граждан. Веками власть в России относилась к людям как к материалу, часто – как к расходному материалу.
В гражданах воспитывалась взаимность: «Жила бы страна родная, и нету…».
В таких системах процветание государства, как минимум, не тождественно благоденствию народа. Чаще, наоборот, расцвет государственности сопровождается социальным упадком и народными бедствиями. «Государство крепло – народ хирел…».
В целом, хотя и отрывочно, но наблюдается тенденция к тому, чтобы сделать народ самодеятельным субъектом национальной истории, а его свободную производительность – основным источником общенационального благосостояния. То есть создать положение, в котором люди делают богатой страну, работая на себя, а не на государство.
Однако эта тенденция периодически сменялась срывами в рабство еще более архаическое, чем ранее. (Социально-экономическая система ГУЛАГа была в этом смысле историческим «авангардом архаики»).
Вместе с тем, даже коммунистический проект на своем излете вынужден был разменять пафос энтузиастического (то есть дармового, по сути, рабского) строительства на лозунги в духе: «Все во имя человека…». При очевидном лукавстве этих лозунгов, сам факт такого заигрывания был свидетельством глубокой эволюции социума, прежде всего отношения людей к стране и некоторого понимания властью этих изменений.
С этой точки зрения нынешняя российская ситуация представляется, как минимум, двойственной.
На первый взгляд, не осталось никаких идеологических поводов к тому, чтобы интересы государства превалировали над интересами людей: не надо защищать их от хронических набегов, неудержимо расширять территорию, обеспечивать выполнение божественно уготованной или всемирно-исторической освободительной миссии.
Но вместе с тем, у российской государственности сохранилась великая внутренняя задача – предотвращения очередного гражданского конфликта.
Потенциал такого конфликта запрограммирован внутренним противоречием той формации, которая сложилась в России в результате рыночных реформ, с некоторого момента совпавших с фазой уникальной нефтяной конъюнктуры.
В начале реформ часть населения переместилась в тогда еще диковатый капитализм, а часть – осталась прозябать в руинах социализма. Поэтому 90-е годы страна прожила в состоянии холодного социального конфликта (с множеством малых горячих точек и одной большой, вовремя, хотя и брутально купированной). Если воспроизвести идейно-политическую атмосферу того времени и вспомнить, что эти люди в этой стране говорили друг о друге, то это окажется типичная атмосфера гражданской войны с намеками на ее перерастание в великую отечественную
[50].
Приватизировав наиболее доходные монополии, сверхкрупный бизнес попытался приватизировать и государство, а с ним – и всю страну. Но в итоге государство «на противоходе» деприватизировало политические возможности бизнеса, а частично – и доходы от сверхвыгодных монополий.
В результате попыток построить капитализм с человеческим лицом, возник капитализм с человеческим выражением на лице… и с двумя телами.
Необходимый баланс предпринимательской хватки и социальной ответственности у нас не распределен в каждой точке страны и социума. Есть две подсистемы: одна извлекает богатство из экспорта ресурсов – другая все это наблюдает либо с пониманием, либо обреченно, либо тихо зверея от социальной несправедливости. Поскольку эти подсистемы потенциально конфликтны, государство принимает на себя миссию обеспечения минимума социальной справедливости и, соответственно – смягчения социальных напряжений и предотвращения фундаментального конфликта. Такое государство – не нанятый «ночной сторож», а верховный арбитр, инстанция высшего передела благ, предмет социальных упований. А значит, люди в такой стране – все еще не хозяева, а подданные, не способные разобраться между собой по закону и праву, свободно и по справедливости. В такой ситуации даже стопроцентно свободные выборы с точки зрения обеспечения прав и свобод в реальной, повседневной жизни не слишком отличаются от процедуры «юрьева дня».
К этому приходится относиться спокойно, как к определенному этапу эволюции и к естественному порождению преимущественно распределительной экономики. Но к этому надо относиться и с пониманием перспективы: на случай обвала энергетического благополучия такое государство окажется без экономически обоснованной базовой миссии, а значительная часть населения вместе с проектами «модернизации сверху» – неприкаянными.
И к этому можно относиться с надеждой. Исторический вызов, перед которым мы оказались в нынешней глобальной ситуации, настоятельно требует изменения фундаментального архетипа наших взаимоотношений с собственной страной – воссоединения России с ее собственным народом.
Если, подытожив сказанное, кратко обрисовать ситуацию, картина проступает тревожная, но и умеренно оптимистическая.
1. Страна выбрала демократию на уровне политического и морального кредо. Однако до сих пор слаба экономическая основа демократии (как способа политической организации обществ, в которых национальное благосостояние и мощь страны обеспечиваются производительной активностью большинства населения). Доминирование сырьевого экспорта неизбежно сохраняет в реалиях суверенной демократии зияющие пробелы в обеспечении экономического, а с ним и правового суверенитета народа. Сырьевая экономика с характерным для нее распределительным патернализмом регулярно ставит власть над гражданами, воспроизводит в толще властных отношений отнюдь не демократические стереотипы, вплоть до полного произвола чиновников и бесправия граждан в зоне их повседневных контактов.
2. Задача выхода из сырьевой зависимости поставлена – и именно как стратегическая. Однако намечаемые прорывы в области высоких технологий и наукоемких производств эту задачу, во-первых, решают далеко не сразу и лишь отчасти, а во-вторых, сами не обеспечены ни общей технологической культурой, ни экономикой, готовой востребовать эти результаты в необходимом объеме. Сохраняется риск, что российская наука опять сработает на наших мировых конкурентов, а «экономика знания» к нужному моменту так и не обеспечит необходимых темпов и масштабов диверсификации.
3. Для преодоления сырьевой зависимости, технологического отставания и утечки исследовательских результатов необходим массовый запуск реальных, несырьевых производств, способных поддержать (а во многом уже и возродить) общий уровень технологической культуры, создать экономическую среду, способную продуктивно осваивать новые технологии. Однако именно этот сектор находится сейчас в наихудшем положении: его конкурентоспособность резко, иногда до критического уровня занижена административным прессингом, нагнетаемым в условиях господства сырьевой экономики и распределительной бюрократии.
4. Для запуска и развития реальной экономики требуется, в том числе, финансово-экономическая поддержка. Инструменты известны, средства зарезервированы. Однако в условиях нерешенности ряда базовых проблем в области финансового и нефинансового регулирования эта поддержка искусственно сдерживается, чтобы избежать неадекватного расходования средств, вплоть до их массового разворовывания и растекания по каналам легализованных поборов.
5. Идеология решения этих проблем также известна и даже декларирована на высшем политическом уровне: стратегия дебюрократизации, административная реформа, реформа технического регулирования и т.п. Однако эти реформы наталкиваются на саботаж бюрократии, затягиваются, а в ряде случаев оказываются на грани имитации и вырождения в контрреформу.
6. Даже в условиях жесткого административного прессинга, реальная, несырьевая экономика, теряя целые сектора, тем не менее, еще сохраняет определенные позиции и даже обнаруживает точки роста. Однако масштабов и темпов такого роста категорически недостаточно в условиях предельной сжатости исторического времени, отпущенного на диверсификацию экономики, причем при любых, даже самых щадящих сценариях.
7. В результате страна рискует оказаться в критический момент не готовой к резкому изменению сырьевой конъюнктуры, со всеми вытекающими отсюда последствиями экономического, социального, политического и даже геостратегического характера. Опасные сценарии, подобные последствиям снижения цен на нефть в 80-е годы, еще не исключены.
Учитывая реальные инерции общества, срок в тридцать-сорок, максимум пятьдесят лет оставляет минимум времени на раскачку. В случае бифуркационного скачка и трудно прогнозируемого развития событий этот срок может сократиться до двадцати лет, что с учетом возможного неприемлемого ущерба даже при небольшой вероятности такого сценария вовсе не оставляет времени на раскачку и делает задачи мегапроекта безусловно императивными.
* * *
Задачи мегапроекта, будучи инспирированы, казалось бы, вполне локальной ситуацией, в то же время имеют глубокие исторические измерения. Они предполагают завершение долгой фазы реформирования власти в России – превращения населения из подданных в граждан, причем не в политических декларациях, а в реальном экономическом базисе и его столь же реальном правовом обеспечении, в обыденной практике.
Это, в свою очередь, требует пересмотра ряда фундаментальных архетипов идеологии, сознания и культуры, стандартов общественной морали и отношений, системы образования и воспитания. А поскольку в экстремальных обновлениях коррекция идеальной сферы должна опережать изменения в сфере материальных отношений, времени на эту работу нас отпущено даже меньше, чем на диверсификацию экономики.
Кроме того, такая переориентация России совпадает по времени с мощными сдвигами в самосознании техногенной цивилизации. В этой переоценке ценностей одним из ключевых моментов является критика проектно-преобразовательного пафоса как такового, культ осторожности во всякого рода вмешательствах, доверие к самоорганизации. В этом плане мегапроект выступает не только как план изменений, но и как программа коррекции самих подходов к принятию и реализации стратегических решений. Это для России сейчас тем более актуально, что в ее планах диверсификации экономики и продвижения в наукоемкое и высокотехнологичное будущее уже намечаются признаки влюбленности в прорывные проекты при невнимании к контексту и среде их реализации. Наша история слишком богата примерами, когда дизайн эпохальных проектов оборачивался сценографией, театром обновления и процветания, масштабными духоподъемными картинами, разворачивающимися на фоне упадка и кризиса, в лучшем случае вялого прозябания.
* * *
Все это говорит о необходимости видеть множество разных аспектов и измерений стоящей перед страной задачи. Это задача объемная и по определению комплексная. Она в равной мере затрагивает сферы экономики, политики, идеологии, общественной морали и социальной психологии, организации регулирования и администрирования. Эти задачи необходимо решать комплексно, скоординированно, в подчинении общей сверхзадаче – выводу страны из колеи сырьевого экспорта и распределительных отношений к экономике созидания и массовой производительной активности, которая только и делает население для государства ценностью, а не обузой. Пока эти задачи решаются по отдельности и асинхронно, фронт обновления будет постоянно прорываться бюрократической и теневой реакцией, организующей локальные реванши и не позволяющей двигаться вперед в нужном темпе. Поэтому необходим именно мегапроект – как комплексная и по возможности всеобъемлющая программа интенсивного обновления.
Задача эта крайне сложная, а при сохранении нынешних инерций – практически не решаемая.
Однако умеренный оптимизм внушают два обстоятельства.
Во-первых, хорошо уже то, что предыдущая работа вывела страну на постановку этой задачи и создала минимально необходимые предпосылки для самой возможности ее решения.
Во-вторых, для решения этой задачи в стране потенциально все есть. Это снимает проблему поиска того, чего может в принципе не оказаться.
Когда проблема в том, чтобы снять обузу и максимально раскрыть имеющийся потенциал, задача оказывается заведомо решаемой. Но решаемой при наличии понимания и консенсуса, политической воли и массового участия.
Примечания
[1] Страна выбрала демократию на уровне политического и морального кредо. Однако до сих пор слаба экономическая основа демократии (как способа политической организации обществ, в которых национальное благосостояние и мощь страны обеспечиваются производительной активностью большинства населения). Доминирование сырьевого экспорта неизбежно сохраняет в реалиях суверенной демократии зияющие пробелы в обеспечении экономического, а с ним и правового суверенитета народа. Сырьевая экономика с характерным для нее распределительным патернализмом регулярно ставит власть над гражданами, воспроизводит в толще властных отношений отнюдь не демократические стереотипы, вплоть до полного произвола чиновников и бесправия граждан в зоне их повседневных контактов.
[2] Задача выхода из сырьевой зависимости поставлена – и именно как стратегическая. Однако намечаемые прорывы в области высоких технологий и наукоемких производств эту задачу, во-первых, решают далеко не сразу и лишь отчасти, а во-вторых, сами не обеспечены ни общей технологической культурой, ни экономикой, готовой востребовать эти результаты в необходимом объеме. Сохраняется риск, что российская наука опять сработает на наших мировых конкурентов, а «экономика знания» к нужному моменту так и не обеспечит необходимых темпов и масштабов диверсификации.
[3] Для преодоления сырьевой зависимости, технологического отставания и утечки исследовательских результатов необходим массовый запуск реальных, несырьевых производств, способных поддержать (а во многом уже и возродить) общий уровень технологической культуры, создать экономическую среду, способную продуктивно осваивать новые технологии. Однако именно этот сектор находится сейчас в наихудшем положении: его конкурентоспособность резко, иногда до критического уровня занижена административным прессингом, нагнетаемым в условиях господства сырьевой экономики и распределительной бюрократии.
[4] Для запуска и развития реальной экономики требуется, в том числе, финансово-экономическая поддержка. Инструменты известны, средства зарезервированы. Однако в условиях нерешенности ряда базовых проблем в области финансового и нефинансового регулирования эта поддержка искусственно сдерживается, чтобы избежать неадекватного расходования средств, вплоть до их массового разворовывания и растекания по каналам легализованных поборов.
[5] Идеология решения этих проблем также известна и даже декларирована на высшем политическом уровне: стратегия дебюрократизации, административная реформа, реформа технического регулирования и т.п. Однако эти реформы наталкиваются на саботаж бюрократии, затягиваются, а в ряде случаев оказываются на грани имитации и вырождения в контрреформу.
[6] Даже в условиях жесткого административного прессинга, реальная, несырьевая экономика, теряя целые сектора, тем не менее, еще сохраняет определенные позиции и даже обнаруживает точки роста. Однако масштабов и темпов такого роста категорически недостаточно в условиях предельной сжатости исторического времени, отпущенного на диверсификацию экономики, причем при любых, даже самых щадящих сценариях.
[7] Проблемы правозащитного движения в России во многом связаны с тем, что оно в недостаточной степени сосредоточено на защите экономических свобод. Оно защищает граждан от необоснованных репрессий в более или менее экстраординарных ситуациях (что по-своему понятно), но не реагирует на массовые, ставшие уже рутинными административные репрессии в отношении малого и среднего бизнеса.
То же можно сказать о новейшем российском либерализме: либерализм не имеет достаточной социально базы уже потому, что либералы борются за права либералов, а не граждан. Строго говоря, либерализм – это философия бюргеров, а не политиков, которые борются прежде всего за свое право избираться и быть избранными, печататься в прессе и показываться по телевидению. Поэтому осиротевшее российское бюргерство, если и голосует, то за партию власти, в надежде, если не взять свои права, то хотя бы что-то выпросить.
[8] Например, борьба с административным рэкетом, с ведомственным и околоведомственным бизнесом объединяет гражданскую инициативу с такими органами власти, как антимонопольная служба, Счетная палата и т.д., вплоть до Казначейства.
[9] В этом смысле вопрос из известного анекдота: «Должен ли честный чиновник платить налоги с взяток?» вовсе не представляется таким уж абсурдным, а тем более смешным.
[10] В реальной жизни эти два явления – «естественная» и искусственно создаваемая административная монополии – не всегда существуют отдельно друг от друга и в чистом виде. Есть множество гибридных, переходных форм. Однако для понимания сути имеющихся здесь принципиально важных различий продуктивно рассматривать эти явления как относительно чистые формы.
[11] Как показывают специализированные исследования и антикоррупционная практика многих стран, постепенное снижение уровня коррупции возможно только в случае кумулятивного, комплексного воздействия целого ряда факторов – начиная с уровня обеспечения гражданских служащих и заканчивая политической и экономической стабильностью в стране. При этом, если позитивный эффект дает только совокупность этих факторов, то для всплеска коррупции достаточно того, чтобы перестал работать хотя бы один из этих факторов.
[12] Мы не рассматриваем здесь экстремальные случаи, когда «откаты» составляют до 80% выделяемых средств. При этом надо учитывать, что «откаты» нередко закладываются в бюджеты проектов в виде «предусмотренных расходов». Временно закрывая на это глаза, государство фактически создает еще одну не афишируемую линию перераспределения (вторую зарплату). С таким же успехом можно было бы установить фиксированные проценты отчислений для чиновников, распределяющих бюджетные средства по инвестиционным, исследовательским, благотворительным и т.п. проектам. Это позволило бы «планировать» административный рэкет, «регулировать» его и даже ввести в общие рамки налогообложения.
[13] В этом отношении бандитская «крыша» часто оказывается менее вредоносным явлением, чем административный рэкет. «Крыша» заинтересована в том, чтобы «крышуемый» бизнес существовал и развивался. Поэтому известны случаи, когда рэкет учитывает конъюнктуру, «входит в положение», в трудных ситуациях выделяет средства на то, чтобы перебиться, далее начинает инвестировать и т.д. и т.п. Чиновник же, если может, обгладывает до кости и намертво.
[14] С этой точки зрения после обвального перераспределения портфелей и кабинетов осталось еще огромное поле работы, причем именно стратегического значения. Достаточно напомнить, что одной из «полок» первого указа об административной реформе было «развитие саморегулирования», в отношении которого с тех пор не произошло ровно ничего.
[15] В ходе реализации первого этапа было создано 10 рабочих групп по отдельным направлениям, в которые, наряду с представителями профильных органов власти входили на паритетных началах представители предпринимательских объединений и экспертных организаций. Всего на этапе «расчистки» функций и полномочий в реформе было задействовано более двух тысяч специалистов. И даже при такой постановке дела Президент на съезде одного из предпринимательских объединений в 2003 г. указал на необходимость более активного привлечения общественности к проведению административной реформы.
[16] Поэтому иногда здесь в качестве почти эквивалента используется термин «нетарифное регулирование».
[17] Эта схема в тех или иных несущественных модификациях применяется в цивилизованных странах; в чистом виде она действует в ЕС. Стандарты позволяют пользоваться готовыми, апробированными решениями, заведомо обеспечивающими выполнение требований технических регламентов. Однако добровольность стандартов позволяет применять любые новые, нестандартные решения, удостоверившись на основе собственных испытаний, что требования регламентов и в этом случае выполняются.
[18] Технические регламенты могут также приниматься международными договорами Российской Федерации, а в форс-мажорных ситуациях – указами Президента.
[19] В настоящее время такое влияние существует, однако оно формируется неконтролируемым суммированием отдельных, как правило, не взаимосвязанных друг с другом ведомственных акций. Регулируется многое, избыточно многое, но не регулируется главное – суммарный эффект. В этом смысле техническое регулирование сейчас напоминает гигантскую машину, которая движется по городу, управляемая десятками несогласованных водителей, дергающих ее в разные стороны, одновременно давящих на газ и на тормоз и т.п. Разрушительные последствия такого «движения» очевидны.
[20] Например, в случаях, когда государственный надзор заменяется страхованием ответственности, такая форма рыночного регулирования безопасности оказывается более эффективной уже потому, что в отличие от органа государственного надзора, при возникновении инцидента (наступлении страхового случая) страховая компания расплачивается собственными деньгами. То же можно сказать о саморегулировании – саморегулируемая организация в таких случаях также отвечает своими корпоративными компенсационными фондами.
[21] Достаточно поднять проекты «новых» законов «О стандартизации», «О сертификации» и пр., подготовленные Госстандартом на тот момент и не содержавшие даже признаков сколько-нибудь адекватного реформирования сложившейся системы. Все основополагающие идеи реформы исходили из Администрации Президента и Минэкономразвития. И именно из этих структур появился проект закона «О техническом регулировании», после недолгой борьбы положенный в основу реформы. Ситуация не изменилась и в ходе подготовки и продвижения Закона: Госстандарт продолжал оставаться структурой, сопротивление которой приходилось преодолевать буквально на каждом шагу, причем разными средствами, включая кадровую интригу.
[22] Главный провал этого периода – не была запущена Правительственная программа разработки технических регламентов.
[23] О том, что это значит для реформы, можно судить хотя бы по тому, что по данным опросов предприниматели более трех четвертей общего объема проблем относят именно на регулирование процессов и лишь менее четверти – на регулирование продукции. Примерно такой же, если не больший процент трагических инцидентов также относится к регулированию безопасности производственных процессов как таковых. Об абсурдности этого плана говорит уже та развилка, перед которой мы оказались в результате принятия этих поправок. Либо реформа в отношении безопасности процессов будет не только приостановлена (что уже произошло), но и остановлена. Либо через некоторое время она будет начата заново, но для этого понадобится продублировать всю ту инфраструктуру, которая уже была создана в ходе реализации закона «О техническом регулировании»: запустить параллельную программу финансирования законопроектных работ, создать дополнительные элементы системы управления реформой – дублирующие комиссии, рабочие группы, общественные советы и т.д. Наконец, в отношении процессов понадобится принять еще одни закон, большей своей частью дословно повторяющий закон «О техническом регулировании» и устанавливающий все те же принципы реформирования: ограничение требований безопасностью, вывод из обязательной сферы конкретных конструкционных и технологических решений, введение ряда принципиальных запретов на совмещение функций, чреватых коррупцией, использованием монопольного положения и пр. Нелепость этой параллельной, дублирующей системы достаточно очевидна. Однако если этого не сделать, то можно забыть о конкурентоспособности, инновациях, развитии несырьевого сектора, малого и среднего бизнеса и т.д.
[24] Тем не менее, результаты здесь могут быть те же, что и во взаимодействии с государственной бюрократией. Например, значительные средства, выделенные на аудит промышленной безопасности, могут, пройдя через внутренние, пограничные и внешние афиллированные структуры, дойти до реального исполнителя в таком объеме, что за эту работу возьмется только организация, готовая на недобросовестное исполнение контракта. Назревающие технологические отказы в ряде крупнейших корпораций в ближайшее время поставят эту проблему в полный рост.
[25] Иногда в обществе создается впечатление, что создаваемые резервные, стабилизационные фонды могут существенно демпфировать ситуацию в случае резкого падения цен на энергоносители. В известной мере это так, но при этом надо учитывать целый ряд ограничений и сопутствующих проблем. Как бы ни были велики размеры этих фондов, этого явно недостаточно, чтобы спасти положение в случае реализации экстремальных сценариев. (В этом плане важнее стерилизационная функция этих фондов: предотвращение взрыва инфляции от притока ненормально больших денег, предохранение их от разворовывания и т.п.). Кроме того, необходимо учитывать, что планируется применение этих фондов в стабильной ситуации, тогда как предназначены они для применения по прямому назначению в ситуации по определению нестабильной, если не кризисной. В таких ситуациях может происходить все, что угодно, вплоть до повторения судьбы «золота партии». В этом смысле содержание огромных средств именно в денежной форме, не привязанных к собственности, активам и т.п. – вообще крайне рискованное предприятие, провоцирующее к тому же не вполне здоровые аппетиты и фантазии. Поэтому отщепление Фонда будущих поколений и иные тенденции вложения резервных средств в решение текущих задач – возможно, далеко не худшие сценарии.
[26] В том, как предприятия и отдельные производства разносились по территории СССР, был экономический абсурд, но и политический расчет. Экономическая география Союза проектировалась и обустраивалась таким образом, чтобы супергосударство в принципе нельзя было разобрать без катастрофических последствий для производства и внутреннего обмена.
[27] В этом случае регионы-реципиенты объективно оказываются все менее заинтересованы в федеральном центре. Вопрос «по чем политическая лояльность» неприличен, но только до тех пор, пока цена известна. Вопрос «по чем политическая нелояльность» также не поднимается, пока федеральный центр в силе и надежно блокирует саму возможность региональной фронды. Но достаточно этим сдерживающим факторам ослабнуть, как становятся возможны любые межрегиональные крамолы.
То же относится и к регионам-донорам. Они безропотны, пока ситуация в стране консолидирована в целом и пока перераспределение высоких доходов от нефти позволяет им обеспечивать достаток и развитие на своих территориях. Соответственно, сокращение общего перераспределяемого объема может создать положение, которое для доноров будет становится все менее приемлемым.
[28] Конкуренция между сырьевым и производящим секторами имеет место не на уровне продукта, а в плане инвестиций, предпринимательской активности, занятости и пр. Когда деньги, инициатива и люди перетекают из одного сектора в другой – это и есть межотраслевая конкуренция.
[29] Достаточно вспомнить тургеневского «Рудина»: У меня нет никаких убеждений – Вы точно в этом уверены? – Да. – Вот вам на первый раз ваше первое убеждение. В народной мудрости это называется «свято место пусто не бывает», в логической семантике рассматривается как эффект метаязыка.
[30] Более строгим в данном контексте является термин «идеологическое». Жанровый спектр здесь крайне широк: от многотомных философий до лапидарных конструкций из трех слов. «Капитал», «Декларация независимости», «Православие, самодержавие, народность», сконструированные национальные идеи Израиля или ЮАР, послевоенный «план Белля», советский задачник по арифметике, боевик, в финале которого герой сглатывает слезу на фоне реющего звездно-полосатого флага – все это в равной мере идеология, ипостаси идеологического. Со всем этим имеет смысл работать одинаково внимательно. Хотя бы потому, что разные исторические ситуации востребуют разные идеологические жанры.
[31] Такого рода «идеологический солипсизм» был отличительной чертой советской идеологии. От идеологических схем требовалось, чтобы они были убедительными прежде всего для самих идеологов, а не уже потом для массового потребителя. Нечто подобное наблюдается на рынке пиара, когда заказчик – политик или предприниматель – принимает рекламу, в которой он нравится самому себе, отвергая то, что реально продвигает товар. Местами от этого не свободна и политическая реклама более высокого уровня.
[32] Классический случай: взаимоотношения протестантской этики и «духа капитализма» (Макс Вебер).
[33] В качестве примера можно привести сравнение двух подходов к понятию национальной идеи. Бывают ситуации, когда можно рассуждать в духе В.Соловьева: национальная идея это не то, что народ думает о себе в реальной истории, а то, что Бог думает о нем в вечности. Но бывают ситуации, когда стране надо «всего лишь» определиться, как быть и что делать именно здесь и сейчас, в этой точке исторического развития, как собраться на решение конкретной исторической задачи. Примерно таким образом самоопределялась Германия после Второй мировой войны.
[34] Между прочим, это один из эффективных приемов переговорных стратегий.
[35] Такой подход заложил еще философский и этнологический структурализм, требовавший исследовать «примитивные» культуры как таковые, а не как сплошное отклонение от гуманитарных норм самого исследователя. Впоследствии эта методология легла в основу нового гуманизма.
Для нас это тем более актуально, что Россия в этом плане также весьма неоднородна и представляет собой особый тип нации. Это, конечно, не «человечество в миниатюре», но и здесь, как и в большом мире, есть фрагменты, находящиеся на разных стадиях политической эволюции, пребывающие как бы в разных временах, если и движущиеся к одной политической модели, то с разными стартовыми условиями и с разными скоростями. Причем это наблюдается не только в регионально-этнической, но и в социальной стратификации.
[36] Необходимо также учитывать, что такого рода практики за последнее время активно переводились в легальные формы и обеспечивались всевозможными прикрытиями. Прямолинейная коррупция сменялась окологосударственными поборами, в которых порой не остается ничего теневого, кроме… самой сути отношений. Для сокрытия этой сути выстраиваются целые системы алиби. На случай угроз (административная реформа, реформа технического регулирования и пр.) все это обеспечивается развернутыми программами защиты, а также вневедомственными исполнителями этих программ в виде ангажированных или «дочерних» общественных структур. Поэтому здесь необходимо видеть неформальные отношения как в «тени» нелегальных схем, так и в «свету» целой сети официальных практик, а также организаций, учреждений, предприятий, фондов и программ.
[37] Современная историческая наука не ограничивается анализом проявлений власти там, где власть непосредственно видима и показывает себя в том свете, в каком считает нужным. Для понимания скрытых и глубинных характеристик социальных систем применяется анализ власти в ее обыденных проявлениях, в отношении индивидов и их повседневной деятельности. За всем этим стоит общая тенденция. Так, опыт оценки социума через анализ «микрофизики власти» (например, через исследование систем наказания в классической работе «Надзирать и наказывать») является готовой концептуальной и методологической моделью для анализа деятельности современных контрольно-надзорных органов, их методов незримого присутствия, сверхдетальной регламентации, дисциплинарных техник, репрессий и т.д.
[38] Это также создает предпосылки для переоценки ценностей на уровне массового сознания. Для нас, лишенных аналогов протестантской этики или конфуцианства, но имеющих все признаки историософской нации, это особенно важно. Для нас история важна и как урок (в самом широком смысле этого слова), и как предмет системы образования.
Для начала нужна хотя бы начальная демилитаризация и деполитизация школьной истории, которую нельзя сводить к истории политической борьбы, войн и революций, царствований и иных правлений. В новой истории должны найти достойное место люди и процессы, созидавшие национальное достояние, причем не только идеологизированными авралами, но и повседневным трудом. Иными словами, в истории также необходимо восстановить ту утраченную «середину», которой нам сейчас не хватает в текущей реальности.
[39] В силу не всегда объяснимой телеологии особо значимые открытия, в том числе в гуманитарной сфере, происходят именно тогда, когда это жизненно необходимо для развития человека, его цивилизации и культуры.
[40] Под событийной историей – историей войн и походов, бунтов и революций, царствований и завоеваний, выступлений и открытий – обнаруживается другая, глубинная история. Это история изменений в системах материального производства и обмена, обустройства среды обитания, повседневных контактов, одежды, питания, семьи и секса, наказания, лечения болезней, отношения к разного рода отклонениями т.д. и т.п. Под «пылью событий» обнаруживается целый континент обыденного, исследование которого позволяет по-другому увидеть и понять движение истории, некоторые глубинные и часто скрытые социальные механизмы.
[41] Поверхностные изменения осуществляются достаточно быстро, тогда как глубинные тренды, связанные с изменением сознания и обихода, требуют большего, иногда существенно большего времени. Типичная ловушка для мегапроектов – интенсивные, резкие изменения на уровне «политики событий» при полном невнимании к сфере обыденных, повседневных практик и отношений.
[42] Сталинская индустриализация и урбанизация органично вылилась в тоталитаризм, поскольку проводилась силами народа, в основном воспитанного крестьянским обиходом. И наоборот, большевикам понадобилось много времени и зверств коллективизации, чтобы изжить уклады, заложенные столыпинскими реформами. Хрущевская оттепель была легко свернута, поскольку на уровне массового обыденного сознания и практик повседневности были все еще очень сильны инерции предыдущего периода. И наоборот, за время брежневских «заморозков» в глубинных слоях продолжало оттаивать то, что не успело оттаять за время первой оттепели. В результате страна вошла в политический застой в одном менталитете, а вышла совершенно другой. Крушение советской системы было результатом прежде всего это глубокой эволюции, а не только событий середины 80-х.
[43] Этот тип сознания легко идет на перевертыши: сначала полагается, что мы должны ограничивать себя осознанной необходимостью, а потом выясняется, что уже и сама история беззащитна перед той необходимостью, которую мы сами для себя «осознали» и которую бесцеремонным образом истории навязываем.
[44] Это не план возрождения политической евгеники, поскольку не предполагает создания новых, специальных инструментов. Такие инструменты, формирующие человека и социум, уже существуют, они активно работают, и вопрос лишь в том, что именно они в нас воспитывают и во что нас перевоспитывают. Это также не план создания Нового Человека. В отличие от наций определенного «характерного образа», в нас есть разное, если не все. У нас есть вполне самобытные штольцы и донельзя европеизированные обломовы. Вопрос лишь в том, чего нам не хватает в штольцах, и чего не хотелось бы потерять в «обломовщине». А главное – что именно мы в себе реально развиваем, а что пытаемся хотя бы не культивировать.
[45] Отчасти срабатывает рефлекторный энтузиазм. Отчасти он глушится гнетом прозаических проблем, давящих население. Но есть и обратные эффекты, когда увлеченность демонстрацией достижений вызывает негативные реакции, вплоть до озлобления. Во всяком случае ослепляющий эффект эстетики достижений неравномерно распределен в социальном пространстве. И он особенно ненадежен во времени: то, что сегодня так или иначе срабатывает на поднятие общей самооценки, завтра легко могут переквалифицировать в пиар во время чумы.
[46] Не случайно в советской литературе, драматургии, кинематографе и пр. за героем созидания всегда скромно маячил руководитель парткома, райкома и т.д. с хитроватым ленинским прищуром и чуть ироничной покровительственностью – партийная deux ex machina, подлинный гарант успехов передовика, новатора, борца за правду. Наивысшее, хотя и не всегда демонстративное социальное признание оставалось за человеком власти. Достаточно того, что именно от человека власти зависело признание или не признание человека труда, науки или искусства.
[47] Поэтому неудивительно, что к стенаниям по поводу взяток на дорогах всерьез мало кто относится, о чем свидетельствуют народные анекдоты, сюжеты про патологически честного инспектора в «Наша Russia» и т.п.
[48] Вообще говоря, непрозрачность и невыполнимость нормативной базы также возникает не вполне естественно, но в любом случае, это проблемы, решаемые длительной систематической работой по изменению самих принципов регулирования и его правового обеспечения.
[49] Классические примеры: требование платных заключений отдельно на ввоз оргтехники в комплекте и отдельно на ввоз комплектующих, которые к ввозу в комплекте уже допущены; получение платных справок, подтверждающих, что ввозимые изделия не подлежат сертификации при наличии официально утвержденных перечней такого продукции и т.д. и т.п. Этот коммерциализированный абсурд имеет повальный характер и производит гнетущее впечатление от власти, по своему вреду несоизмеримое с финансовыми расходами бизнеса, естественно, перекладываемыми на потребителя.
[50] Если воспринимать тогдашнюю лексику буквально, то страну на тот момент делили старые «палачи и тюремщики» – и новые «оккупанты». В этом плане известный выбор между «ворюгой» и «кровопийцей» был поэтическим выражением политического настроения. Ситуация была крайне опасной: сначала раскалываются умы – потом начинают раскалывать головы. Спасло то, что люди, в том числе политики, отвыкли от большой крови, боялись ее.