|
Политико-деловой журнал № 8 (68), сентябрь 2013
Реформа науки в общественно-политическом и гуманитарном контексте
В чем-то они неожиданно радикальные, в чем-то — робкие и двусмысленные (слишком видно, что через силу). Но вопрос о том, могут ли эти жесты быть честными, насколько они содержательны и убедительны, сейчас становится критичным. (Иначе это другой, совсем плохой сценарий, который в итоге не устроит никого, включая самих инициаторов). Помимо моральной стороны дела, с которой в политике всегда плохо, здесь есть и сугубо функциональная проблема. Политическая чувствительность сейчас настолько обострена, что именно от достоверности и последовательности таких шагов зависит, в какую сторону они уводят — в плюс или в минус? Вопрос не риторический, ответ на него далеко не очевиден. Проблема «учебника истории»Один из недостатков политики — зауженный горизонт планирования и прогнозирования последствий. Понятно, что во власти это волнует не всех, но с определенного статуса начинаются проблемы не с сиюминутной репутацией, но с «работой на историю», на признание не только в настоящем, но и в будущем. Наверху об этом явно начинают задумываться, и идея единого учебника истории не чужда этой заботе. Однако не сразу приходит понимание того, что будущее в отличие от настоящего пиаром не пробьешь и прореживанием дискурса не исправишь. Там историю пишут, увы, другие, и делают они это обычно сами. Может показаться, что для разговора о нынешней реформе это заход слишком издалека. Однако в данном случае и надо начинать именно с того, что от всех этих инициатив в истории останется. И на ком все в итоге (а не в эти месяцы) повиснет. Королёв говорил: «Сделаешь быстро, но плохо — «быстро» забудется, «плохо» останется. Сделаешь медленно, но хорошо — «медленно» забудется, а «хорошо» останется». К тому же бывают ситуации, когда «быстро» и «хорошо» в принципе несовместимы. Наш случай отсюда. Можно спорить о том, какие стратегические последствия будет иметь неизбежный провал начинания, если оно стартует по наполеоновскому принципу «сначала ввязаться в драку, а там…» (хотя в нашем случае более уместна русская поговорка «убийство драке не помеха»). Но в истории часто остается даже не столько содержание события, сколько его форма, не результат, а процедура, способ действия и реализации. Не «что», а «как». Часто именно форма поступка более всего говорит о человеке, в том числе об историческом деятеле — о его морали, уме, политическом таланте… или о бездарности. То, как реформа начата, как обставлена и какими приемами реализуется, вряд ли работает на репутацию сегодняшней власти. Так ненароком можно вписать в этот учебник «яркую» страницу, которая потом окажется едва ли не самой одиозной. А желающие выспаться с храпом на таком удобном предмете, как судьба отечественной науки, всегда найдутся. Сейчас, может быть, гораздо важнее даже не суть и детали законопроекта, пакета и плана реализации, а именно процедура, характер отношений, этика и стиль, политическая манера, наконец, просто эстетика деяния. Есть такое слово: некрасиво — и не только в жизни, но и в политике. Именно это в первую очередь будут полоскать благодарные (или, наоборот, озлобленные) потомки, переходя на личности, как это всегда бывает в отношениях с прошлым. По идее, это же должно быть предметом приоритетного обсуждения и коррекции, если мы хотим свести к минимуму негативные последствия бурного начала. Особенно с учетом того, что форма принятия решений и их воплощения будет потом годами аукаться с каждой новой акцией в отношении исследовательских структур, институтов, их подразделений и даже отдельных лиц, имеющих (или вдруг приобретающих) неординарный вес. В стране сейчас явно не хватает новых лихачёвых и сахаровых. Политика реформы: заинтересованные лица и коалицииПолитические последствия того, что уже произошло, легко считаемы. Оппозиция получила идеальный мотив для красивой активизации, регулярный информационный повод, а также целый контингент, ранее бывший лояльным или просто пассивным. Ликвидация РАН, формальная или фактическая (а тут все легко читается даже при замене слов), лучшее, что можно придумать для нового объединения фронды и для оправдания ее готовности по этому поводу, что называется, ложиться костьми. Нет такого демарша, который был бы несоразмерен «расправе с академией», «разгрому науки» и пр., включая призывы к отставке правительства, если не более того. Не важно, что из этого мало что получится организационно, но такие призывы будут услышаны и восприняты сочувственно. А это — лишний накал. К тому же протестная активность (по данным ЦСР, но не только) сейчас одновременно и распространяется из центра на периферию, и, что еще важнее, адресуется уже не столько местным властям и губернаторам, сколько первому лицу (что порождает проблемы с «тефлоном», ранее работавшим безупречно). Очевидно, и здесь претензии адресуются на самый верх, даже если пока на словах речь идет о репутации советников и министров. Далее важно, что это контингент потенциально активный, при надобности самоорганизующийся, с мозгами, подвешенными языками и заточенными перьями. И, как правило, вызывающий понимание и сочувствие. Этих людей уже не запишешь в хомячки или иностранные агенты, купленные за печенье с презервативами.
Вся эта среда в итоге начнет самоорганизовываться. К политике сдвинутся (уже сдвинулись) люди, которые до этого гордились своей принципиальной аполитичностью и беспартийностью. Есть много факторов и обстоятельств, в силу которых огромное число людей не готовы примкнуть ни к одной из ныне действующих партий и ни к одному из общественных движений. Но что касается движения в поддержку «гонимой науки», то здесь эти ограничители перестают работать и начинается протестная консолидация даже самых щепетильных и политически брезгливых. А это идеальные лидеры и медиаторы, поскольку прошлая надпартийность придает им особый авторитет и вес. Далее у правительства начнут выпадать все аргументы, связанные с тем, что ранее переговоры с академией зашли в тупик. Будет предъявлен контраргумент: просто вы не с теми переговаривались, не на тех пытались опереться. Окажется, что и в самой академии, и в научном сообществе в целом достаточно сил, ориентированных на реформу, причем на вполне радикальную, но при этом вовсе не сводимую к той экзотической модели, которую предложили от имени правительства. Всем объяснят, что неудачные контакты с академическим официозом вовсе не обязательно должны были привести к тому, что реформу взялись готовить и делать, вообще ни на кого не опираясь в научном сообществе. Небывалая секретность акции (ни одной утечки до последнего дня, включая президента РАН) по-хорошему не оправдывается — а чего, собственно, боялись и что пытались предотвратить? Когда начинают вести себя так, будто в реформируемой среде вообще нет «здоровых сил», с которыми можно вести дело, это всегда нехорошо изолирует реформаторов и ставит под сомнение уже не только моральную сторону, но и само качество проекта, его идеологию и методологию, саму модель. Вступает в силу более общий контраргумент: никто в системе управления вообще не вправе без систематического взаимодействия разрабатывать какие бы то ни было модели радикальной реорганизации науки, противное — на грани превышения служебных полномочий. Наука специфична тем, что в отношении нее вне ее самой не может быть внешних центров компетенции и компетентности. И дело не в том, что законопроект о науке (!) выходит со смешными арифметическими ошибками, а представитель правительства сетует на то, что у нас нет ни одного ученого с показателем по индексу Хирша в 25000, когда мировой рекорд 150. Разработать адекватную модель реорганизации науки силами экспертов при исполнительной власти, к тому же навербованных из конкурирующих с академией околонаучных и образовательных структур, в принципе невозможно. С таким же успехом можно поставить судить конкурс красоты команду топ-моделей, намеченных для участия в следующем туре. Иначе говоря, такое дело, если по уму и всерьез, немыслимо без достаточно широкой, открытой, профессиональной и компетентной коалиции, а тот узкий и закрытый альянс, который был задействован, на такую коалицию близко не тянет, даже в имитации. Скорее наоборот, сейчас будто специально создан образ заговора дилетантов, бросающих тень и на само предприятие, и на позицию государства в целом. Автономия во сне и наявуЕсли всмотреться в проект и в реакцию на него, окажется, что за вычетом легко снимаемых «экстремизмов» в духе «ликвидации» и т.п. главные претензии предъявляются идее передачи управления научными институтами от академии к специальному органу исполнительной власти. Можно опустить вопрос о том, могут ли чиновники лучше ученых руководить исследованиями — определением приоритетов, оценкой результатов и пр. Такого, как говорится в детской загадке, «не было, не будет, а если будет, то весь мир погубит». Но на это, по крайней мере на словах, никто, казалось бы, и не претендует. Речь идет о желании освободить ученых от несвойственной им функции управления имуществом, ни в коей мере не посягая на академическую автономию, то есть на то, что даже в «мрачном средневековье» уважительно именовалось университетскими свободами. Но в наших условиях, когда мы имеем дело с проблемой избыточного регулирования буквально во всех сферах деятельности, причем отнюдь не только в предпринимательской, можно быть уверенными, что административное вмешательство в исследовательский процесс гарантировано, как только такая возможность появляется, причем совершенно не важно, будет такая возможность прямой или косвенной. Мотивы здесь не обсуждаются, поскольку и так ясны и к предмету деятельности отношения не имеют. При этом понятно, что в случае если недвижимостью, движимостью и прочими ресурсами какого-либо института управляет сугубо внешняя инстанция, ни о какой реальной автономии речи быть не может. Даже если руководителем такого агентства не на три года, а по должности становится президент академии (поскольку он утверждается исполнительной властью). В итоге мы получаем классический, причем искусственно созданный лишний административный барьер с неограниченными возможностями как для необоснованного вмешательства, так и для множественных злоупотреблений. И можно не сомневаться, что эти возможности будут реализованы, в том числе и во «внутривидовой» конкурентной борьбе. Наука и общество: постнеклассические отношенияНаша наука в известном смысле проспала постнеклассическую революцию, когда научное знание перестало быть «священной коровой» и оказалось перед лицом необходимости объяснять человечеству, что ученые делают, зачем это нужно, какие от всего этого могут быть последствия, причем в равной мере как позитивные приобретения, так и риски, возможно, даже фатальные. Мы в этом не одиноки. Уже примерно полтора десятка лет назад перед подобной (и совершенно практической) проблемой оказался, например, ЦЕРН, вдруг ощутивший живую потребность начать как-то объясняться с внешним миром, какой людям толк от всей этой ловли неуловимых частиц, если эта мировая складчина обходится не менее миллиарда долларов в год. Тогда анализ, проведенный в том числе с помощью наших специалистов в области «философского пиара», показал, что даже на совершенно утилитарном уровне у этих, казалось бы, сугубо фундаментальных исследований есть огромное множество побочных достижений, в буквальном смысле слова изменивших мир (например, все та же WWW — World Wide Web, разработанная Робертом Кайо поначалу в целях оптимизации принятия решений и электронного документооборота). Иными словами, проблема не в результатах, а в том, что о них не знают, если этим специально не заниматься. Это проблема фундаментальная, можно сказать, историческая, и кавалерийской атакой она не решается. Если кто-то думает, что реальную результативность нашей науки, тем более не интегральную, а с дифференциацией по отраслям знания, по научным организациям и даже по отдельным ученым можно выявить, заказав непрофильной иностранной фирме разовое исследование, а потом проведя своими же силами скоропалительный «аудит», это само по себе является свидетельством некомпетентности, усугубленной нежеланием учиться. ЦЕРН выскребался из этой коллизии не один год, с провалами и не до конца. Что говорить о нашей науке, у которой даже близко не хватает ресурсов на исследования, а на экспликацию и презентацию собственной результативности не было и нет вообще ни копейки (если, конечно, не считать такие недавние начинания, как новорожденный РИНЦ). Далее выяснится, что в плане реальной результативности, ее выявления и оценки есть фундаментальные различия между точным и естественнонаучным знанием, с одной стороны, и социогуманитарными науками — с другой. Никто еще не отменял максимы Клода Леви-Стросса: «XXI век будет веком гуманитарных наук — или его не будет вовсе». При этом в социогуманитарных науках сплошь и рядом самое результативное (даже в сугубо конъюнктурном смысле этого слова) вообще не ловится международными базами данных и индексами цитирования, поскольку привязано к месту, к ситуации. Если эти различия не учитываются, если эта проблема даже толком не ставится, уровень подготовки любого «аудита результативности» можно без оговорок считать неудовлетворительным и отправлять на пересдачу, лучше сразу с другими учениками. И наконец, совершенно особая тема — сверхутилитарная результативность науки, познавательной деятельности в целом. В науке есть своя прагматика, причем по косвенным признакам и итогам выявляемая даже в фундаментальных исследованиях. Однако человеку и человечеству по определению, генетически свойственно узнавать и знать, причем совершенно безотносительно к голой или «приодетой» прагматике. Занятия наукой помимо прямых и косвенных результатов полученного знания в принципе формируют в нации корпус умных людей (в том числе и поэтому страна так быстро вошла в рынок — сработала внутренняя утечка мозгов из науки). Если это в нации есть, такие направления пестуют и культивируют даже самые малые страны. Тем более это относится к России, в прошлом которой однажды было почти уникальное в истории человечества явление — полный научный комплекс. Даже если в каких-то направлениях остались почти руины этого великого сооружения, к ним надо относиться так же бережно, как мы относимся к памятникам архитектуры и археологическим открытиям. Это долго объяснять, но есть люди, которым вовсе не объяснишь, почему историческое здание, а тем более памятник архитектуры нельзя переоборудовать в стиле модерн (тем более постсоветский), почему нельзя устроить в храме мысли интеллектуальный фастфуд, хотя бы и неплохо саморекламируемый и даже доходный. Есть и более простые соображения, ставящие на место сторонников заполошных реформ. Формализованная оценка результативности, казалось бы, дает основания избавиться от балласта. Но сплошь и рядом все упирается в непонимание того, что наука — это сложный организм, требующий для своей репродукции среды, состоящей отнюдь не из гениев и их прямых подручных. Если уволить 90 нерезультативных ученых и оставить 10 результативных, через некоторое время вы получите ту же пропорцию, но уже на 9 «серых» будет один выдающийся. К тому же вы отсечете огромную зону нераскрытого потенциала, в которой вообще нельзя заранее сказать, что именно сработает, вдруг неожиданно развернув весь процесс. Нынешняя наука в России — сложнейшее образование, причем не только исследовательское, но и социальное. Это венчурный бизнес с элементами собеса, по-человечески просто обязанный содержать множество людей, отдавших науке и стране всю жизнь, проработавших за копейки без сна и отдыха и не получивших в свое время за это даже малой доли той компенсации, которую имели и имеют в других странах вполне себе рядовые научные сотрудники. Возможно, сейчас в нашей истории такое время, что хотя бы на несколько лет вообще лучше воздержаться от каких-либо революционных изменений. Иначе можно легко совершить еще один «подвиг» сродни обесцениванию вкладов и нарваться на протест, в сравнении с которым недовольство монетизацией льгот покажется мелочью, а «заливать деньгами» эту беду придется уже политическому руководству. Подорвать будущее нашей науки сейчас еще проще. Но тогда во власти нужно куда больше людей, которых это вообще волнует, понимающих, что для такой страны, как Россия, большая наука это не приятный аксессуар, но атрибут государственности и самосознания, если угодно, идентичности.
Текст: Александр Рубцов, руководитель Центра исследований идеологических процессов Института философии РАН
Источник: http://www.politekonomika.ru/aug2013/atributy-i-aksessuary/ |
 ПолитЭкономика
ПолитЭкономика 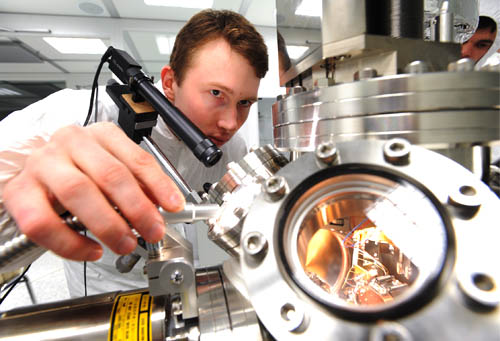 Начало форсированной реформы академической науки вызвало в обществе (и не только в научном) противостояние, близкое к кризису.
Дело не только в конфликте Академии наук и министерства. Поляризуется социальное пространство; активизируются политические силы; разные взгляды обнаруживаются и в самой власти. Все это уже не вопрос быстрого продавливания закона и пакета подзаконных актов. Сам этот проект, его социальные, политические и гуманитарные последствия — все это теперь всерьез и надолго. Если не хронически. Вместе с сильной головной болью.
Начало форсированной реформы академической науки вызвало в обществе (и не только в научном) противостояние, близкое к кризису.
Дело не только в конфликте Академии наук и министерства. Поляризуется социальное пространство; активизируются политические силы; разные взгляды обнаруживаются и в самой власти. Все это уже не вопрос быстрого продавливания закона и пакета подзаконных актов. Сам этот проект, его социальные, политические и гуманитарные последствия — все это теперь всерьез и надолго. Если не хронически. Вместе с сильной головной болью. Важно также, что речь вовсе не о руководстве академии, с которым так неудачно вели переговоры эмиссары правительства, и даже не о корпусе академиков и членкоров, но об «ученых» в целом. Более того, конфликт возбуждает гораздо больший социальный массив, чем сотня тысяч сотрудников академических институтов, интересы которых реформа затрагивает в большей степени, чем академическую среду. Поэтому расчет на то, что прямыми подачками удастся нейтрализовать состав академиков, оказался ошибочным. Во-первых, всегда найдется сотня-другая, а то и четвертая-пятая самих академиков, которые пойдут на демарш, жертвуя деньгами и положением, что придаст этим людям героический ореол и сразу поставит их в глазах общества много выше коллаборационистов. Во-вторых, в состояние хронического волнения придет вся институтская среда. Далее сработает «социальный мультипликатор» (А. Ксан), и к этой волне подключатся бесчисленные родственники, друзья и знакомые, их близкие, а также просто сочувствующие людям и «науке», которую у нас всегда любили и которую по инерции жалеют начиная с 1990-х, с самого старта рыночных реформ. Обвинение в «новой гайдариаде» гарантировано.
Важно также, что речь вовсе не о руководстве академии, с которым так неудачно вели переговоры эмиссары правительства, и даже не о корпусе академиков и членкоров, но об «ученых» в целом. Более того, конфликт возбуждает гораздо больший социальный массив, чем сотня тысяч сотрудников академических институтов, интересы которых реформа затрагивает в большей степени, чем академическую среду. Поэтому расчет на то, что прямыми подачками удастся нейтрализовать состав академиков, оказался ошибочным. Во-первых, всегда найдется сотня-другая, а то и четвертая-пятая самих академиков, которые пойдут на демарш, жертвуя деньгами и положением, что придаст этим людям героический ореол и сразу поставит их в глазах общества много выше коллаборационистов. Во-вторых, в состояние хронического волнения придет вся институтская среда. Далее сработает «социальный мультипликатор» (А. Ксан), и к этой волне подключатся бесчисленные родственники, друзья и знакомые, их близкие, а также просто сочувствующие людям и «науке», которую у нас всегда любили и которую по инерции жалеют начиная с 1990-х, с самого старта рыночных реформ. Обвинение в «новой гайдариаде» гарантировано.