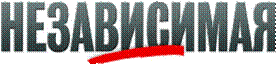|
27.05.2014 Как возможно российское политическое самоопределениеЗеркало для антигероя
В последнее время мы буквально на глазах лишаемся остатков определенности в понимании того, чем была наша политическая система в 90-е и нулевые годы, чем она является сейчас, в состоянии обвальной трансформации, и чем она может оказаться завтра, останется ли от нее вообще что-то при таких испытаниях на прочность. Отношения с «мировым цивилизованным» сообществом испорчены окончательно, даже если и начнут восстанавливаться ритуалы стратегического сотрудничества. Силовой эффект явно театрализован, отработан для внутреннего пользования в создании образа «небывалой крутизны», а на деле основан скорее на неожиданности методов и уже показывает пределы возможностей этого подобия мускулатуры. Таможенный союз и прочие рудименты СССР в шоке, все более напоминающем кому. Объятия с Китаем, при всех внешних эффектах, вряд ли заставят кого-то всерьез поверить, что эти люди не воспользуются нашей ситуацией в полной мере из восточного гуманизма. Внутриполитическая ситуация меняется кардинально, сдвигая систему ко все более архаическим формам легитимации власти через персонифицированную харизму и прямое единение вождя с массой в атмосфере технично нагнетаемой экзальтации. В этом положении естественно появление развернутых политологических моделей, основанных на привычных схемах и достижениях здравого смысла. Но в таких случаях бывает особенно полезно лишний раз проверить инструментарий и пересмотреть все успокаивающие достоинства «очевидного». Если смотреть на дело в самом общем виде и сугубо формально, то критичен уже сам факт признания проблемы политического самоопределения. Такой вопрос выглядит естественным, когда страна оказывается перед выбором, обусловленным нарушением обычного хода вещей: революцией, восстанием, бунтом, военным или номенклатурным переворотом или же какой-нибудь малозаметной, ползучей, но существенной трансформацией. Самоопределение, по сути, и есть выбор, а значит, должна быть ситуация выбора, причем достаточно кардинального. Если же таких экстраординарных условий нет, то о каком принципиально новом политическом самоопределении может идти речь? Стандартный рецепт: читайте Конституцию, о главном там все сказано. Или? Но проблема может оказаться критичной и в когнитивном плане, когда, несмотря на конституционные положения, политическое законодательство и официальные формулировки, мы все еще сами не понимаем, что построили и в чем живем, и тогда ситуация выбора остается, но уже между различными версиями и толкованиями. В любом случае, если вопрос все же не снимается, значит, проблема шире и глубже простого и прямого самоопределения – тогда надо еще предварительно сориентироваться в особенностях самой этой политической идентичности, а именно выяснить, что это за особый тип состояния или процесса, когда общество, казалось бы, формально самоопределившись, продолжает содержательно самоопределяться вновь и вновь, причем не только потому, что политики и аналитики предлагают разные ответы, но и потому, что постоянно меняется сама определяемая реальность, иногда быстрее, чем появляются новые трактовки, часто противоположные друг другу и друг друга взаимоисключающие, доходящие до открытого и непримиримого конфликта. Если этого не сделать, можно оказаться в положении людей, мирно обсуждающих особенности горения различных материалов, но при этом даже не удосужившихся сообщить друг другу о том, что беседа проходит в горящем доме. Разные анамнезы – разные диагнозыПервая же статья Основного закона РФ гласит: «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления». Но если вопрос о предмете политического самоопределения не снимается даже при таких категорических формулах и на таком принципиальном уровне, здесь возможны опять же два варианта: либо обсуждаются нюансы и вариации внутри этой модели, но ее адекватность сомнения в целом и в главном не вызывает – либо приходится решать, насколько наша политическая реальность вообще соответствует или не соответствует заявленной модели – в целом и в принципе. Проще говоря, это у нас такая особенная, самобытная и неприлично суверенная демократия – или это уже не демократия вовсе, давно, если не изначально?
Но и на этот вопрос не всегда и не во всем можно ответить корректно, не уточнив временной отрезок и вектор изменений. Можно, конечно, считать, что весь постсоветский период характеризуется одним типом политического самоопределения. Но можно по крайней мере предположить, что на этом отрезке были значимые, качественные изменения. То же можно сказать и о более коротких отрезках, например о путинском периоде. Во всяком случае, это два реально существующих подхода и в аналитике, и в бытовом сознании: либо Путин изначально был таким и все это время оставался одним и тем же и лишь удачно мимикрировал – либо он реально эволюционировал, и путинизм на разных этапах имел особые черты, причем эта разница достаточна для существенно различной квалификации периодов. Разные анамнезы дают разные диагнозы, а тем более рецепты. Как бы там ни было, в любом случае приходится признать очевидную чрезвычайность постановки вопроса о политическом самоопределении. Более того, я бы сказал, что еще более чрезвычайна сама ситуация, когда вопрос о политическом самоопределении не воспринимается как чрезвычайный при здравствующей Конституции. Чрезвычайные положения в истории бывают, но все же нормализация чрезвычайного, тем более хроническая, – это, как ни посмотри, отдельный случай, дающий нам куда большие основания претендовать на особую идентичность, чем духовные скрепы и традиционные ценности. Синдром наблюдателяИзвестная закономерность: умные люди обсуждают проблему, дураки – оппонента. Но это в обыденной полемике. В науке часто принципиально важна именно позиция наблюдателя, причем не только оппонента, но и самого аналитика. Кто говорит? Из какого места? В каких отношениях он находится (я нахожусь) с объектом исследования? Особенно это важно в гуманитарном знании, а в философических исследованиях рефлексия такого рода обязательна, а то и вовсе оказывается на первом месте. Когда этого нет, возникает ситуация хотя и привычная, но с оттенком комизма: человек становится в позу и начинает рассказывать «всю правду» про политическую систему так, будто сам находится вне каких-либо связей с этой системой и говорит о ней в терминах единственного сущего и единственно возможного языка, из самого «чрева Истины». Здесь сразу разделяются два подхода, а строго говоря, и два типа сознания: нормативный и аналитический. Нормативизм рассматривает все (в данном случае российскую политическую реальность) с точки зрения ее соответствия или несоответствия некоей нормативный модели (в данном случае, например, в соотношении с якобы универсальной и глобально укоренившейся моделью либеральной демократии). С этой точки зрения Россия – это европейская страна с формально признанной демократической формой правления, но и с дикими отклонениями от нормы на грани или уже за гранью срыва в авторитаризм, диктатуру или совсем уже восточную деспотию. При таком взгляде на вещи в любом случае, даже при максимальном удалении от западного прототипа, это все же девиация – не нечто самостоятельное, но именно неправильное (что, естественно, предполагает наличие правила, от которого мы отклонились, и признание этого правила легитимным правилом). Объективистская аналитика, наоборот, требует забыть о нормативных моделях и рассматривать исследуемое общество на его собственных основаниях, «изнутри», сняв предубежденность и опираясь на независящие от сознания объективации. С этого начинал структурализм в исследовании «примитивных обществ»; эта же линия в целом продолжается в постструктурализме, полагающем нормативизм и универсализации всякого рода пережитком не только колониальной антропологии и синдрома белого человека, но и самоанализа. В наших условиях это означает примерно следующее: любой аналитик, исследующий Россию (в том числе, а может быть, и прежде всего местный, российский), должен отнестись к исследуемой реальности строго безоценочно, без готовой схемы, по отношению к которой будут замеряться отклонения. Он обязан вообразить себя исследователем, столкнувшимся с совершенно неизведанной социальной средой и культурой, к которой ранее известные цивилизационные шаблоны неприменимы. При таком подходе смыслообраз «остров Россия» приобретает и еще один смысл: это отдельный кусок суши в океане мировой цивилизации, на которую десантируется аналитик-первооткрыватель. Для него жители этой богоспасаемой территории в аналитическом статусе не отличаются от аборигенов Океании, североамериканских индейцев или английских тори: всякая культура таит в себе нечто, не сводимое к тому, что люди думают и говорят о себе, а тем более к тому, что думает о правильной жизни сам аналитик. Естественно было бы предположить, что нормативностью, как правило, увлекаются политики, тогда как исследователям ближе непредвзятый, безоценочный подход, рассматривающий предмет вне всего привносимого извне и предзаданного. Однако в реальности часто все бывает не так просто, если не наоборот. «Русский неевропеец» как антипод западникаКонечно, представление о России как о временно несостоявшейся Европе, исповедуемое отдельными политическими деятелями и участниками процесса, выглядит в таком ригоризме поверхностным и упрощенным. Но, как ни странно, сюда же примыкает и прямо противоположное по смыслу, но методологически родственное утверждение, в частности диковатый тезис «Россия не Европа», воспетый было в проекте «Основ государственной культурной политики» в исполнении Минкульта, но решительно отброшенный в варианте тех же «Основ», вышедшем из-под пера рабочей группы администрации президента. Как ни парадоксально, это примерно один взгляд на наше политическое мироустройство, хотя и с прямо противоположными оценками: одни сокрушаются, признавая, что Россия, увы, не Европа, другие признают тот же факт, но с принципиально иными оценками и комментариями: «и слава богу», «не дай бог» и т.п. В первом случае нормативность очевидна, но она же сквозит и во втором случае. Для одних европеизм, западничество и т.п. – это норма, в том числе и наша, для других это тоже норма, но не наша, причем такая, что о себе мы только и можем сказать: мы не они. В этой «апофатической культурологии» российская идентичность задается через множество «не», однако из позитивных утверждений и характеристик при этом не появляется практически ничего. В этой идеологии есть абстрактные заявления об особом статусе «государства-цивилизации», но нет своей плотности, как у человека-невидимки, становящегося видимым только во внешней и, как выясняется, не своей оболочке из чужой одежды и фиктивных бинтов. Но здесь же в непосредственной близости мы обнаруживаем и куда более строгую методологическую проблему. Если люди не могут обойтись без упоминания неких реалий в качестве нормы или антинормы, не надо ли тогда признать, что эта привязанность в том числе входит и в их политическую идентичность, становится важной частью их политического самоопределения? Известно высказывание классика, впоследствии охотно цитировавшееся его учениками, в частности Лениным, Троцким: о человеке судят не по тому, что он о себе говорит. Позже это стало методологическим принципом целого марксоидного направления. Однако с несколько иной точки зрения политическая риторика, даже имеющая мало общего с реальностью и практикой, часто не менее важна для понимания предмета, чем разного рода «чистые» объективации. Древние японцы говорили: «Самурай без меча все равно что самурай с мечом – но без меча». Так вот, применительно к нашему предмету, например деспот с либеральной риторикой – это далеко не то же самое, что деспот без такого рода аксессуаров. Тем более когда сама эта риторика подвергается таким быстрым и сильным изменениям, что за ней с трудом успевают политические реалии. И речь здесь не только о том, что прикрытие значимо для анализа, но и о том, что риторическое и формальное прикрытие влияет на политическую практику, даже когда практика идет вразрез с прикрытием. Часто смущают слишком ригористичные заявления о том, что власть давно наплевала на Конституцию, на ее фундаментальные ограничения, запреты и принципы. Как моральные сентенции такие заявления понятны, однако иногда не менее значимы те пространства, в которых это не совсем так, неважно, почему. По крайней мере тут есть что анализировать, есть с чем разбираться в живых отношениях и есть что прогнозировать, пусть даже в самом пессимистическом ключе. Нормативные модели имеют свою инерцию, иначе мы уже жили бы совсем в другой стране. Люди же, считающие, что «уже всё», представляются в этом смысле чрезмерными оптимистами. То же относится не только к риторике, но и к целым институтам, например к институту выборов. Можно считать, что выборов в России нет вовсе – особенно если иметь в виду, что результат этого мероприятия практически всегда предрешен и регулируется средствами массового воздействия на сознание, блокированием оппонентов, фальсификатом и пр. Если надо, все проблемы решаются крайне непринужденно: например, достаточно было партии власти проиграть буквально пару раундов в особо крупных городах, как выборы именно в них быстро и технично отменили. Но вместе с тем не было бы выборов вообще, не было бы всей этой бурной деятельности по достижению результата любой ценой, а значит, не было бы и протеста конца 2012-го – начала 2012 года. А в таких случаях чрезмерно обобщающие риторические фигуры, эффектные, но неточные, обычно уступают более внимательному, хотя и смягчающему ригоризм анализу. Страна с выборами, хотя бы и такими, это далеко не то же, что страна вовсе без выборов, хотя бы и таких.
Туземные нравы белого человекаПодход к нашим политическим реалиям, противоположный нормативно-оценочному, требует отказа от самой идеи отклонения от образца, однако в наших условиях самым неожиданным образом может приводить к ничуть не менее оценочным суждениям. Классический случай – аналогии и параллели с культом карго, о которых речь уже шла, в частности в «НГ-сценариях» от 29.10.2013 (Игры аборигенов. Россия XXI века глазами антрополога). Такой подход рассматривает все, что сейчас осталось в России от атрибутов западной политической культуры, как полные аналогии с ритуалами аборигенов, создававших на островах Меланезии имитации авиационных баз, с тем чтобы вернуть дары богов, ранее в изобилии поставлявшиеся самолетами ВМФ США («карго»). С этой точки зрения наши политические институты и процедуры – те же самолеты из соломы, вышки из прутьев и телефоны из бамбука, которые создавали впечатлительные «самолетопоклонники». Голая имитация, создающая иллюзию причастности к политической цивилизации белых людей, хотя на самом деле... Я уже не раз писал, что прямолинейный перенос такого рода сам отдает культом карго, когда западный концепт заносят в туземную среду формальной копией и часто без того, чтобы вникнуть в некоторые интересные особенности местной ситуации. Возникает «карго в квадрате», «второй степени», своего рода метакарго. Аналитик сам принимает позу белого человека, но при этом теряется сложность этой политической культуры, в которой имитация сливается (или уже слилась?) с остатками реального функционирования институтов и процедур более или менее стандартной демократии, хотя и в сильно «мерцающем» варианте. Даже если признать, что активизм фронды – голая имитация политической жизни в условиях безнадежной архаики, остается необъяснимым тот факт, что этот активизм все же периодически доставляет властям серьезную головную боль и основательно портит удовольствие от управления лагерем. Здесь мы, совершив круг, возвращаемся к теме не просто политического самоопределения, но первичного самоопределения самих самоопределяющихся, а также внешних «определяющих». Это тоже вопрос исследовательской, аналитической, а в итоге политической да и просто человеческой культуры. Отказ от универсалистской нормативности в исследовании «примитивных культур» имел еще и этический заряд: речь шла об отказе от взгляда свысока, от высокомерного ранжирования культур исследующей и исследуемой. Это были первые жесты постмодерна, преодолевавшего плоский прогрессизм и завороженность «стрелой времени». Точно также, в частности, менялось отношение к спонтанной, «второй» архитектуре, к «архитектуре без архитектора», в которой вдруг увидели свою ценность и особые, часто более сложные формы семантики и порядка, чем в профессиональной архитектуре симметрии и читаемой символики. Эта установка, как минимум на равноправие и равноценность, оказалась настолько принципиальной, что со временем западная аналитика карго-культов была подвержена самокритике как проявление колониальной антропологии. Эти люди умеют держать себя в руках; наши – не всегда. С тихим ужасом пытаюсь себе представить, что было бы с каким-нибудь западным антропологом, если бы он вдруг сподобился описывать, скажем, один из островных карго-культов, потешаясь над убогостью аборигенов, язвительно, а тем более злобно. Как минимум профнепригодность плюс чисто человеческая, этическая обструкция. У нас же претензия на постструктуралистскую аналитику может совпадать с уничтожающей карикатурой, хотя во многом и заслуженной предметом, но искажающей даже само первичное описание исследуемой реальности: все же карикатура это не снимок, тем более не «увраж», даже не «кроки» объекта. Однако, если мы хотим достоверного самоопределения хотя бы в том, что есть, и к самому этому «культу карго второй степени» стоит относиться без лишних эмоций, по возможности безоценочно, с попыткой понимания его сложной политической и человеческой природы. В самом деле, мы находимся в ситуации, когда исследователь-антрополог не просто прибывает с исследовательской миссией в чужую и незнакомую для него культуру, но находится внутри схватки, так или иначе втянут в процессы и вынужден периодически смешивать аналитическое с политическим, причем даже не по ошибке, но именно в силу понимания того, что и сама аналитика, выхолащивая политическое, становится, мягко говоря, неточной. Этот аналитик, говоря языком физики, сам находится на движущейся платформе, к тому же нервно трясущейся, вздрагивающей и неизвестно к какой пропасти приближающейся. Поэтому не надо делать вид, что снимки делаются из стабильного, зафиксированного и абсолютно спокойного положения – это будет как минимум нерефлексивно. Антропологу на океаническом острове нет никакого политического дела до того, что местные аборигены маршируют с бамбуковыми ружьями и нарисованными на голых плечах погонами. Исследователю внутри России, местному или «удаленному», до этого есть прямое дело, поскольку маршировать с орденами и форменными пуговицами, нарисованными на голой груди, заставляют целую страну, в которой ты родился и которую не намерен покидать, тем более в ее минуты роковые. Но и это не снимает методологической задачи по возможности отделить политические страсти от аналитики, а там, где это невозможно по определению, внятно отрефлексировать такого рода втянутость. В противном случае мы попадаем еще в один порочный круг, в котором максималистски настроенный исследователь оказывается в той же позиции по отношению к «человеческому материалу», что и люди, всячески пытающиеся искоренить из этой политической культуры остатки подлинности, сделать ее совершенно имитационной. Проще всего сказать: дальше некуда. Но это не совсем так. Во-первых, есть куда, и перспективы здесь обширные, хотя и безрадостные. Во-вторых, чем меньше политических пространств, еще свободных от имитации, тем ценнее и интереснее они и в политическом плане, и для аналитики. Крым с эффектом шампанскогоСпокойным рассуждениям о политическом самоопределении России мешает также стремительность изменений, а главное, их плохо предсказуемый, а то и вовсе непредсказуемый характер. Дело даже не в том, что вектор хотя и определился, но оставляет не вполне ясным, как далеко готов зайти режим на этом опасном пути. Проблема скорее в том, что все последнее время в политике и в стране в целом то и дело происходит такое, во что еще вчера было совершенно невозможно поверить. Такое уже неоднократно повторилось, так что нет никаких гарантий, что завтра мы не станем свидетелями или жертвами еще какой-либо головокружительной трансформации. Можно сколько угодно самоопределяться, но нельзя не видеть, что страну в это самое время «определяют», используя крайне сильнодействующие средства. Политика уже давно вошла в режим, то ли характеризующийся «эффектом велосипеда» (остановка равна падению), то ли напоминающий непрерывную разливку стали: эту печь нельзя остановить даже на время, огненная струя должна подаваться ритмично. Иначе, как принято выражаться в терминах академической транзитологии, «кирдык всему». В этих условиях политическое самоопределение более ориентировано уже даже не на качество системы, а на характеристики процесса, на отслеживание его экстремальных, критичных и конечных точек. Всякий Крым создает «эффект шампанского», а потому конечен. Но и останавливаться нельзя. Боюсь, имитации контакта с живыми тиграми в этой хронической экзальтации будет уже недостаточно.
Александр Вадимович Рубцов – руководитель Центра исследований идеологических процессов Института философии РАН.
Источник: http://www.ng.ru/stsenarii/2014-05-27/9_mirror.html
|